ARTICLE AD BOX
Начмед инфекционной больницы Набережных Челнов — о чувстве долга, ответственности и работе на благо человека
Татьяна Александровна Аглямова, главный внештатный специалист Набережных Челнов по инфекционным болезням, начмед инфекционной больницы, уже 37 лет в медицине. Почти 23 из них она работает здесь заместителем главного врача по медицинской части. На время ее работы пришлась перестройка медицинской системы страны, а в масштабах города ей вместе с руководством удалось сделать очень много для того, чтобы улучшить систему лечения пациентов с пневмониями. Она справилась с огромным объемом работы во время ковида и с гордостью говорит об этом. Самые сложные медицинские случаи, постоянное штудирование научной литературы, море энергии и желание постоянно развиваться — обо всем этом в портрете Татьяны Аглямовой для "Реального времени".
"Огромное чувство долга — черта моего характера"
Татьяна Александровна Аглямова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням, начмед городской инфекционной больницы, уже 37 лет в медицине. Она вспоминает, что хотела стать врачом с детства. В детском садике маленькая Таня "лечила" свои игрушки, в школе состояла в санитарной дружине — лучше всех делала повязки! Выросла наша героиня в Бугульме в семье нефтяников. Ближайшим медиком в семье была тетя — двоюродная мамина сестра Екатерина Кирилловна Наумова, которая много лет проработала в Казанском медицинском институте на кафедре микробиологии. Но наша героиня говорит, что ее стремление стать врачом возникло безо всяких посторонних влияний — просто девочка всегда знала, что станет врачом.
С первого раза поступить в медицинский институт не получилось. И тогда, в 1980 году, девушка вернулась в Бугульму и устроилась санитаркой в оперблок хирургического отделения местной больницы.
— Там я впервые увидела портрет медицины во всей красе, во всем ее героизме и самоотверженности. Это для меня была первая школа. Работа там была трудная, порой физически тяжелая, а я была тоненькая, худенькая девочка. Но это меня не останавливало никоим образом. Огромное чувство долга — это черта моего характера. Поэтому я не стала искать какую-то легкую работу — пересидеть год, перебирая бумажки, мне даже в голову не пришло.

В те годы еще не произошло перестройки здравоохранения, больницы не были разделены на уровни, как сейчас. Поэтому в хирургии Бугульминской ЦРБ было все: и травма, и воспаления, и гнойная хирургия, и "чистая", и крупные операции, и небольшие. За год девушка выучила наименования всех операций, названия и типы хирургических инструментов. Наблюдала, как медсестры стерилизовали инструменты и готовили шовный материал. Часто она задерживалась в больнице до позднего вечера — когда непрерывно шли операции, у санитарки было много работы, и она никогда от нее не отказывалась.
— Это еще одна моя черта характера — гиперответственность. Как я могла покинуть в 5 часов вечера свое рабочее место, если все медсестры еще работали? На операции множество инструментов, по окончании их все нужно помыть и разобрать, рассортировать, прибраться в операционной. В больнице очень любили, когда я дежурила, — вспоминает Татьяна Александровна, — ведь я очень хорошо делала генеральную уборку.
За год в оперблоке наша героиня окончательно уверилась в своем решении: медицина — это ее призвание. В больнице ей очень нравилось. В институт девушку провожали всем коллективом: "Давай, учись дальше!".
"Для меня направление на работу в Челны было честью!"
В 1981-м Татьяна поступила на педиатрический факультет Казанского медицинского института. Сейчас наша героиня рассуждает, что эта школа серьезно помогает ей в профессиональной жизни, ведь у инфекционистов нет разделения на детских врачей и взрослых, и педиатрическое образование дает доктору особый, расширенный кругозор.
Институт Татьяна Александровна окончила с отличием. Признается, учиться ей было легко — в первую очередь потому, что все было интересно. А в 1987 году, получив красный диплом, молодая врач отправилась по распределению в Набережные Челны. В те годы такое направление было почетным, оно считалось подарком. Еще бы! Последняя комсомольская стройка Советского Союза, юный город автомобилестроителей, новейшие больницы, молодое население — мечта!
— А я была очень патриотически настроена, была открыта ко всему, что делалось во благо большой страны. Для меня это направление на работу было честью. Естественно, я поехала сюда с огромным удовольствием, — рассказывает Татьяна Александровна. — О том, чтобы остаться в Казани, я даже не думала, мне этого и не хотелось. И потом, меня очень устраивало чувство свободы, когда ты сама творишь свою жизнь и принимаешь за себя решения.
К тому моменту доктор уже определилась, в какой специализации хотела бы работать. Ее максимализм шептал: работу надо выбирать такую, чтобы на ней было как можно сложнее. Она по-прежнему не искала легких путей — поэтому изначально выбрала одну из самых сложных медицинских профессий — решила стать анестезиологом-реаниматологом. Ее не страшили ни потенциальное выгорание (в те годы и слова-то такого в лексиконе не было), ни огромная ответственность за жизнь пациентов, ни смерть, которая всегда незримо присутствует в орбите работы реаниматолога.
Татьяна Александровна признается: она стремилась работать в реанимации, чтобы видеть результат своей работы. Как человек, которому совсем недавно было очень плохо, быстро идет на поправку в результате правильного, грамотного лечения.

Приехав в Челны, наша героиня устроилась работать в детскую больницу (ныне КДМЦ) для прохождения интернатуры — здесь в курс дела ее вводил заведующий детской реанимацией Ринат Миннебариевич Гизатулин (потом он еще много лет будет работать вместе с нашей героиней, в том числе на посту главного врача городской инфекционной клиники).
— В городе все больницы были новые, и наша детская больница тогда еще только что открылась. После тех старых строений, которые мы в те годы видели в Казани, это было что-то совсем другое. Красивые, современные больницы, большие здания, большие окна… И главное — коллектив, молодой, активный, с желаниями и стремлениями. Ринат Миннебариевич стоял во главе нашего отделения — он тоже был тогда молод и энергичен. Работать с ним было очень интересно! — вспоминает доктор. — Он был идейным генератором!
"Мы даже не задавались вопросом, будут ли машина, квартира, материальные блага"
Ринат Гизатулин устроил своей новой подопечной интернатуру по анестезиологии и реаниматологии. Детской больницей это обучение не ограничилось: молодая врач бывала и на операциях в роддоме, и на наркозах в БСМП, и с пациентами на искусственной почке… Она жадно вбирала опыт, работала не покладая рук, училась. Ей все было интересно, все хотелось знать. Татьяна Александровна задумчиво размышляет:
— Тогда мы даже не задавались вопросом того, будет ли машина, квартира, материальные блага, большие деньги… Вот общежитие, ты в нем живешь. Вот больница, ты в ней работаешь. Делаешь, что можешь, и постепенно развиваешься. Все так жили в те времена. А сейчас, может быть, соблазн велик, и поэтому сформировалось общество потребления? Ценности сегодня совсем другие. И мне непонятны очень многие вещи. Когда приходит молодой человек, начинает жаловаться, буквально за горло тебя держит и требует сразу же, на старте платить ему много денег — у меня возникают вопросы. Он ведь этого еще не заслужил. Не набрал опыта. Еще качество в работе отсутствует. Мне это непонятно, нет!
Курировали челнинских интернов не только городские врачи, но и республиканские светила — легендарный профессор Ахунзянов с коллегами приезжал, проводил операции, работал с молодежью, а потом еще и экзамены у интернов принимал.

В детской больнице Челнов в те годы выполняли сложнейшие операции. Тогда клиники республики еще не были разделены на три уровня, и сложные случаи хирургам можно было оперировать прямо на месте. Татьяна Александровна вспоминает, например, операции по поводу эвентрации кишечника, закрытия трахеопищеводного свища у новорожденных, тератомы и другие — сейчас таких пациентов в обязательном порядке по маршрутизации направляют в ДРКБ, в республиканскую клинику третьего уровня.
А в те годы для молодых челнинских врачей прелесть была в том, что у них была возможность творить, учиться, набираться уникального опыта.
"Перенесли к себе лечение всех инфекций нижних дыхательных путей"
В 1985 году в Набережных Челнах открылась новенькая, с иголочки, инфекционная больница. Открывал ее лично знаменитый инфекционист, академик Покровский. Это был передовой типовой проект инфекционной больницы, один из лучших в СССР. Когда в ней открывали отделение реанимации, понадобились врачи. На Татьяну Александровну возник "отдельный заказ" — ее, уже успевшую себя прекрасно показать, настоятельно приглашали сюда. И здесь, в инфекционке, молодого доктора уже прекрасно знали: ведь во время интернатуры она периодически дежурила в этой клинике. Причем ей даже не приходило в голову требовать, чтобы эти дежурства оплачивали. Так, на общественных началах, и состоялось ее знакомство с больницей, в которой она потом проведет много лет своей успешной врачебной карьеры.
Мы спрашиваем Татьяну Александровну: а страшно не было идти в инфекционную больницу, не боялись ли врачи сами подхватить какую-нибудь инфекцию? Она удивляется:
— Это вообще не было для нас каким-то серьезным вопросом. Никто у нас тут ничем не болеет из персонала. Вы же у фтизиатров не спрашиваете, как они всю жизнь с туберкулезом не боятся работать. Есть ведь жесткие правила эпидемиологии, есть меры профилактики, правила безопасности. Мы все их строжайше соблюдаем, и никогда на эту тему не переживали. Разумеется, как и все обычные люди, мы болеем ОРВИ, переболели ковидом во время пандемии — но уж точно не в больнице ими заражаемся.
Через пару лет в инфекционную больницу заведовать реанимацией перешел работать и первый руководитель Татьяны Александровны — Ринат Миннебариевич Гизатулин. У них сложился плодотворный и смелый врачебный тандем. Наша героиня вспоминает: здесь, в новенькой инфекционной больнице, была передовая реанимация с современной на тот момент аппаратурой. И они с Гизатулиным подумали: почему бы не взять к себе в реанимацию, на это новое оборудование, тех детей, которые лежат в детских городских больницах со стенозами гортани инфекционного генеза? Детская больница с радостью отдала инфекционной своих маленьких пациентов со стенозами. В те годы это состояние встречалось у детей часто, а теперь значительно реже — улучшение Татьяна Александровна связывает с развитием вакцинации. В конце девяностых по той же схеме в инфекционную больницу собрали все детские пневмонии со всего города и стали эффективно лечить. Доктор считает эти шаги одними из главных своих достижений за все годы работы.

— Мы просто всех этих детей забрали сюда. Все дети с ОРЗ с пневмонией стали лечиться на нашей базе, — вспоминает Татьяна Александровна. — Мы решили: пусть они будут здесь, ведь наш коллектив занимается их проблемой давно. А в 2009 году здесь стали лечиться абсолютно все пневмонии — и взрослые, и детские. То есть мы перенесли к себе лечение всех инфекций нижних дыхательных путей. И это было правильным! Ведь до тех пор больные были раскиданы по всему городу: в пульмонологии в пятой горбольнице, в БСМП… Мы эту помощь централизовали.
"Эти годы были для нас счастливыми, потому что мы были молодыми"
В восьмидесятых Набережные Челны были очень молодым городом, поэтому основной массой пациентов инфекционной больницы были дети, в том числе и в реанимации. Были и инфекции со смертельными исходами — к сожалению, от встречи со смертью не избавлен ни один реаниматолог. Опыт нарабатывался колоссальный. Кстати, а вот сейчас, по мере того, как стареет город, возрастная структура пациентов изменилась. В реанимацию в основном попадают пожилые люди, а молодежь поступает сюда гораздо реже — например, в случаях с тяжелой пневмонией.
Пока Татьяна Александровна работала в реанимации, она постоянно училась. Как-то будучи в отпуске, прошла первичную специализацию по электрокардиографии — потому что решила, что не может работать, не зная этих вещей.
— Весь свой отпуск тогда посвятила этой учебе — это вновь к слову о ценностях, которые для нас важны, — вспоминает доктор. — В 1995 году получила первичную специализацию по инфекционным болезням. Училась в Казани, на кафедре у профессора Башировой, получила там фундаментальные знания. До сих пор с огромной благодарностью вспоминаю ее лекции. Тогда и учили по-другому. В непосредственном общении с педагогами, около пациентов, с демонстрацией патологии.
В реанимации инфекционной больницы Татьяна Александровна работала до 2002 года. Коллектив отделения пережил все пертурбации экономики, распад одной страны и формирование новой, тяжелейшие дефолты и лихие девяностые.
— В городе начались трудности, когда частично "встал" КАМАЗ. У нас тогда появилось очень много сотрудников, мы никогда не были так хорошо укомплектованы санитарками. Потому что завод остановился, людей распустили, где им было работать? Многие пришли сюда, согласные на любой труд, пусть и неквалифицированный. Но эти годы для нас были счастливыми, потому что мы были молодыми. Я с благодарностью вспоминаю это время. Тогда все было иным. И даже вкус еды казался другим, особенно после восьмидесятых с их тотальным дефицитом, — вспоминает наша героиня.
В 2002 году заведующего реанимацией Рината Гизатулина назначили главным врачом инфекционной больницы. Тот пригласил Татьяну Александровну на должность своего заместителя по медицинской части. И вот уже без малого 23 года наша героиня — начмед одной из челнинских клиник. Она смеется, что в Челнах, скорее всего именно она — самый опытный по стажу начмед.

"Мне ни капли не стыдно за свою деятельность на этом посту"
За 35 лет многое в работе инфекционной больницы изменилось. Раньше, по словам нашей героини, было много пациентов с вирусными гепатитами, а сейчас вакцинация решила проблему. Массово появлялись в девяностых и корь, и дифтерия, и другие воздушно-капельные инфекции. Не редкостью считался эпидемический паротит.
— Все это удалось взять под контроль благодаря вакцинации. Прививку от гепатита В делают сразу же, в роддоме. И с тех пор у нас гепатита В практически нет. Ситуация по кори тоже значительно улучшилась: небо и земля, в сравнении с тем, что было раньше. Менингококковые инфекции раньше мы видели часто, а теперь какие-то единичные случаи раз за пятилетку фиксируем. В девяностые мы неоднократно работали на вспышках инфекционных заболеваний — например, помню вспышку дизентерии в 1996 году, которая началась с молочного завода в Нижнекамске. Тогда мы за лето приняли более 2 тысяч больных дизентерией! Были в 90-х и вспышки энтеровирусной инфекции — у нас тогда прошло больше 500 энтеровирусных менингитов. Мы люмбальные пункции так отработали, что умели их делать, кажется, даже с закрытыми глазами, на любом столе, в любом подсобном помещении!
На сегодняшний день главными вспышками инфекционных болезней становятся подъемы заболеваемости гриппом. И, конечно, большим испытанием для инфекционистов стал коронавирус. Так вышло, что к нему Татьяна Александровна пришла уже большим специалистом и в инфекционной патологии, и в плане организации здравоохранения, и в плане опыта борьбы с самыми разнообразными ситуациями. Она признается: за много лет научилась моментально оценивать обстановку, спрогнозировать ее развитие и придумать, как решать проблемы.
— Мне ни капли не стыдно за всю свою деятельность на этом посту. Все-таки у меня за эти годы развилась способность к сопоставлению происходящих в разное время событий, некий врачебный и управленческий дар предвидения. Вот и тогда, в коронавирус безошибочно сработала интуиция, стратегическое мышление, — уверенно говорит наша героиня.
С коронавирусом челнинская инфекционка боролась уже под управлением пришедшего в кресло главврача в 2013-м году Ришата Нугманова. Вместе с ним Татьяна Александровна училась на президентской программе повышения квалификации управленческих кадров. Во время обучения каждый должен был представить свой управленческий проект. Он у нашей героини уже давно был готов в мыслях — оставалось только оформить его. В процессе к этому проекту присоединился и Ришат Нугманов.

— Это был проект инфекционной больницы с пульмонологическим центром (ведь все равно все пневмонии были у нас). А мы ведь понимаем, что пневмония лечится не только с крестным знамением и антибиотиком. Нужны разнообразные методы обследования, эндоскопические малоинвазивные технологии. Наконец, не помешало бы иметь собственных хирургов. И мы этот проект накидали — со слайдами, с расчетами, с экономическим обоснованием. Мы искренне хотели принести пользу людям и стране. Ведь он бы повлиял на продолжительность жизни при легочных заболеваниях, — объясняет Татьяна Александровна.
Проект был защищен на отлично. И его пытались было реализовать — уже были достигнуты договоренности с торакальными хирургами, рассчитаны помещения с операционными, распределены инфекционные блоки, спланирована хирургическая помощь больным с ВИЧ-инфекцией… Но реализации так и не случилось. Татьяна Александровна признается, что вспоминать об этом обидно, ведь проект решил бы многие проблемы города. А ведь свободные площади в инфекционной больнице есть, и необходимость в многопрофильной помощи инфекционным пациентам — тоже…
"У меня было четкое представление о том, когда пандемия должна была закончиться"
Впрочем, капитальный ремонт и модернизацию здесь все-таки начали. Вот только пришлось это событие как раз на 2020-й, пандемический год!
— У нас тут вовсю шел ремонт, а нам нужно было организовать "чистые" и "красные" зоны, принимать пациентов, лечить их, — вспоминает Татьяна Александровна. — Плюс, на нас переключили близлежащие районы, пациенты из них приезжали к нам, ведь мы были главным инфекционным госпиталем в этой зоне. Потом, когда пациентов стало много, открылись инфекционные госпитали в многопрофильных стационарах. Но в первую очередь они все поступали к нам, мы обследовали, ставили диагноз и маршрутизировали дальше.
Ремонт сыграл злую шутку, изрядно добавив проблем врачам и руководству больницы. Например, отдельным квестом стал процесс, когда из одного блока в другой нужно было перевезти реанимацию — вместе с больными на аппаратном кислороде! В экстренном порядке устанавливали кислородные точки во всех палатах, ведь до тех пор кислород был только в реанимации. Обрабатывали огромные потоки пациентов, организовывали их поездки на компьютерную томографию во вторую горбольницу — ведь свой томограф появился позже.

Конечно, тяжело было и морально — врачи очень трудно переносили многочисленные смерти пациентов. Татьяна Александровна показывает аптечку, которая осталась в ее кабинете еще с тех времен: почетное место в ней занимает валерьянка. Ею, по старинке, начмед отпаивала докторов, которые приходили к ней в кабинет рассказывать свои печальные истории. Ведь защитой не была даже молодость пациентов. Были потери и среди врачей, и медсестер города.
— И, кстати, ни для кого из наших докторов даже повышенные выплаты не были стимулом. Все говорили: "Быстрее бы это закончилось. Перестали бы люди умирать каждый день". А я человек теоретически подкованный и интересующийся научными данными. Поэтому у меня было четкое представление о том, когда это должно было закончиться. И оно сбылось. Так бывает всегда: новый вирус приходит на какую-то территорию, и пока "проэпидемичивание" всего населения не произойдет, он будет бушевать. А потом наработается коллективный иммунитет, и вирус мутирует до безопасного состояния. Так и произошло с коронавирусом — он мутировал до омикрона и обычного сезонного варианта.
Вспоминая сегодня то время, наша героиня уверена: сделали все, что могли. Спасли всех, кого можно было спасти. И вышли из битвы с пандемией победителями.
Вспоминая о многочисленных смертях от пандемии и рассуждая о том, как врач реагирует на смерть пациента, Татьяна Александровна грустно говорит:
— Наверное, у многих врачей такой философский взгляд на эти вещи. В конце концов, мы рождаемся для того, чтобы умереть, и смерть — часть жизни. Но естественно, у нас в клинике всегда, в любом случае мы будем делать все, чтобы спасти пациента. Бороться будем до последнего. Не можем допустить, чтобы у нас умер кто-то, кого можно спасти.
"Приемный покой всегда знает, что я их не брошу"
Начмед больницы — должность в большей степени административная, но Татьяна Александровна всегда активно вовлекается в процесс врачевания пациентов. Со своего компьютера она имеет доступ ко всем снимкам и анализам, и постоянно контролирует состояние пациентов, состояние которых вызывает обеспокоенность.
— Приемный покой всегда знает, что я их не брошу, — рассказывает доктор. — Они в чате пишут: "Вот такой пациент у нас". И я сразу смотрю, кто, когда его привезли, что с ним, какие есть схемы лечения. Например, вижу, что пневмоторакс — значит, его надо дренировать, а это работа хирургов, которых у нас нет. Сразу же звоню в другую больницу, чтобы его там срочно приняли, и когда пациента к ним привозят, у них уже все готово, они его ждут. Огромный ежедневный прием детей у нас ведется, и я контролирую все процессы. Знаю про каждого тяжелого больного. Чаще всего на сложные диагностические случаи сама иду в отделение, и мы вместе с лечащим врачом разбираемся, ставим диагноз.
Доктор рассказывает различные случаи: например, пару недель назад, поздним субботним вечером, в инфекционную больницу из КДМЦ направили ребенка со странным поражением кожи: отслойка эпидермиса, сильный болевой синдром… Татьяна Александровна быстро догадалась, в чем дело, и еще по описанию в телефонном разговоре предположила, что это золотистый стафилококк. Из больницы она сама не ушла до тех пор, пока ребенка не приняли и не осмотрели. Но ночью ему стало хуже, и тогда начмед лично связалась с коллегой из КДМЦ. Вместе они экстренно организовали перевозку маленького пациента в Казань, в ДРКБ. И пока его лечили, Татьяна Александровна отслеживала все процессы в единой медицинской системе.

Был случай, когда наша героиня ухитрилась точно чисто клинически диагностировать парвовирус у ребенка, хотя этот вирус очень редкий и до тех пор в больнице даже медицинской тест-системы на эту инфекцию не было. А она, увидев сыпь на щеках малыша и сопоставив симптомы с недавно услышанным на конференции рассказом коллеги, заподозрила: не эта ли инфекция перед ней? Вирус подтвердился, ребенка вылечили.
— И это не единственный случай. Мне надо постоянно держать руку на пульсе. Расслабляться нельзя ни на секунду, и неважно, выходной у тебя или нет. Телефон всегда с тобой, ты должна быть на связи. Это всегда держит в тонусе. Я лежу на диване и читаю — мне пишут из приемного покоя, и я включаюсь в работу. Иногда и в три часа отвечаю — я, конечно, иногда и поспать хочу, но это моя работа, — улыбается доктор. — Однозначно, от этого "проседает" домашняя часть жизни. Дети у нас уже выросли и живут отдельно, а вот мужу нередко приходится самому себе есть готовить.
Супруг Татьяны Александровны и сам врач, так что вопросов к сильно занятой жене у него не возникает — в таких медицинских семьях, как правило, царит полное взаимопонимание и взаимная поддержка.
"Я свою работу люблю не за деньги, а за интерес"
На вопрос о том, с чем не хотелось бы встречаться в рабочих буднях, что хотелось бы изменить, начмед одной из крупнейших челнинских клиник отвечает: жизненно нужны кадры. Текучесть кадров огромная, и вины больницы здесь нет: просто ценности общества сместились, как и структура зарплат. И поэтому человеку выгоднее работать в "Самокате" курьером, чем санитаром в инфекционной больнице. Недавно из больницы уволилась прекрасная медсестра из реанимации — теперь она мастер маникюра.
Татьяна Александровна грустно говорит:
— Наверное, современный молодой человек не пропитан тем самосознанием, той идеологией важности собственного дела, в которой выросли мы. Я не уйду из медицины, потому что понимаю, как важно то, что мы делаем. Променять это на бьюти-сервис я бы не смогла ни за какие деньги. Но приоритеты у всех свои, конечно.
Начмед мечтает о том, чтобы больница достигла устойчивой укомплектованности кадрами. Нужны медицинские сестры, санитарки, буфетчики. Не хватает и врачей, но в них нужда менее острая.

Наша героиня — женщина, лучащаяся энергией. Она признается: скучать ей ни разу в жизни не доводилось, она всегда была открыта новому и всегда была занята чем-то большим и важным.
— Я же с ума сойду, если буду лечить какие-то одинаковые случаи и не буду развиваться. А здесь у нас столько всего разного, столько поводов к размышлению есть! Мы иногда всем отделением можем радоваться тому, что правильно продиагностировали больного. Ведь одна инфекция может быть похожа на другую по симптомам. Поэтому я постоянно читаю научную литературу, изучаю клинические рекомендации, обязательно просматриваю научные журналы по нашей тематике. Надо быть в курсе всего и использовать эти знания на благо нашим пациентам. Я свою работу люблю не за деньги, а за интерес. Все, о чем я до сих пор рассказывала, для меня очень важно, — улыбается Татьяна Александровна.

































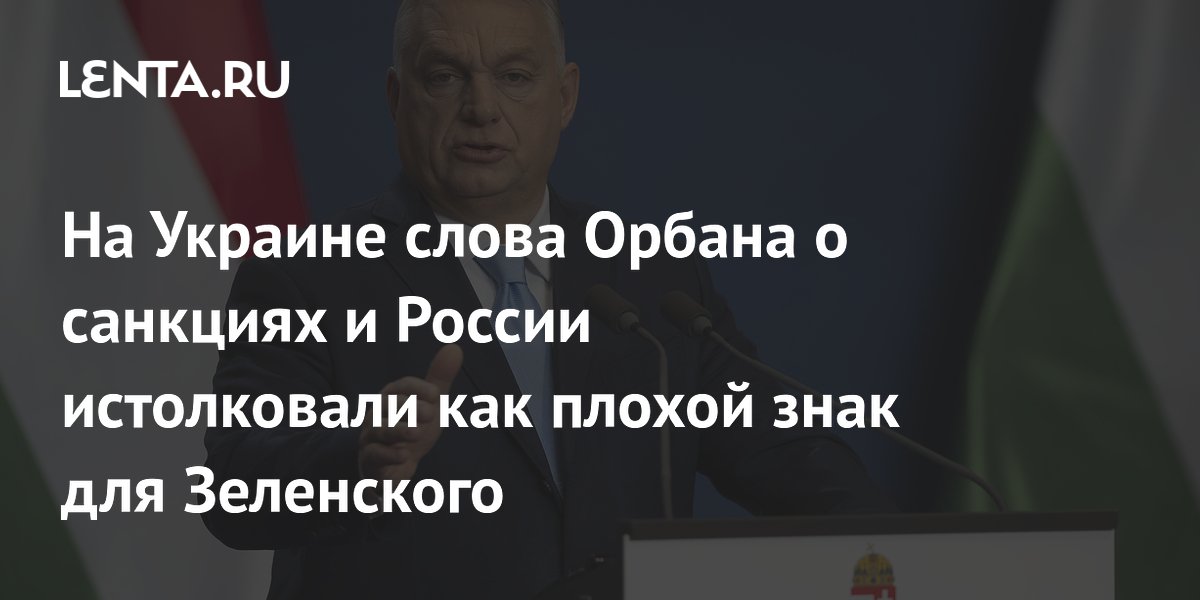


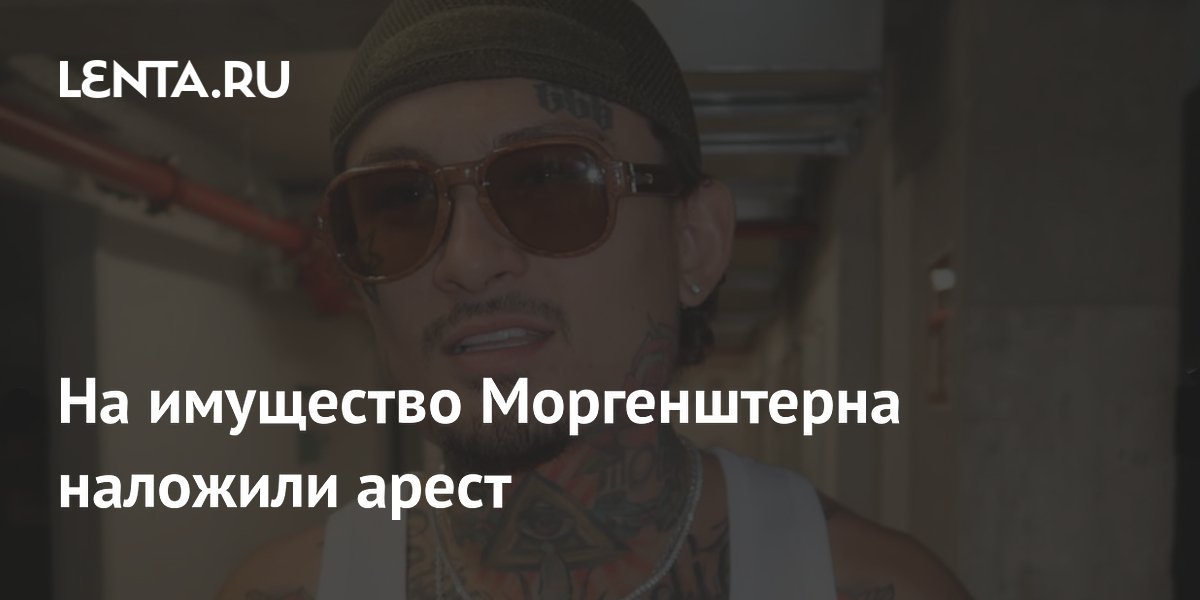
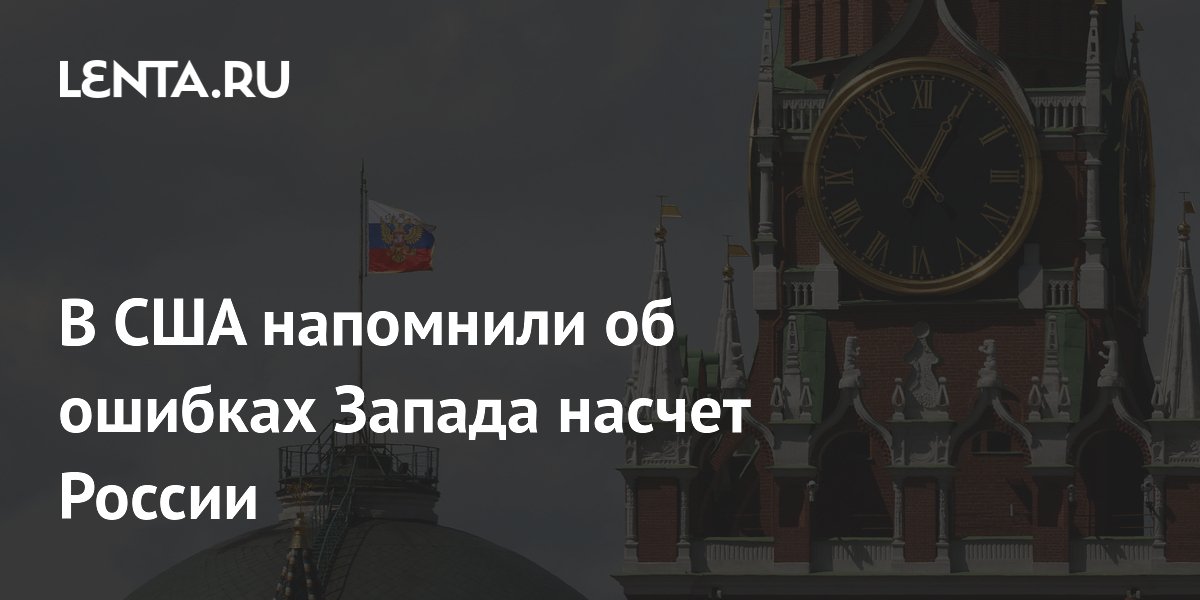
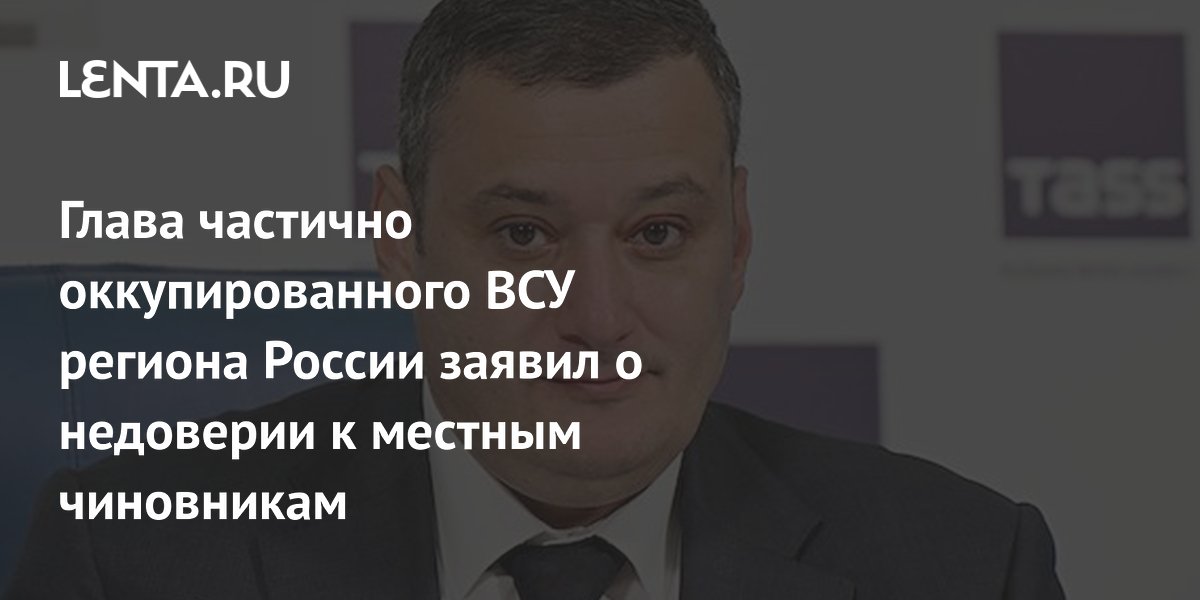
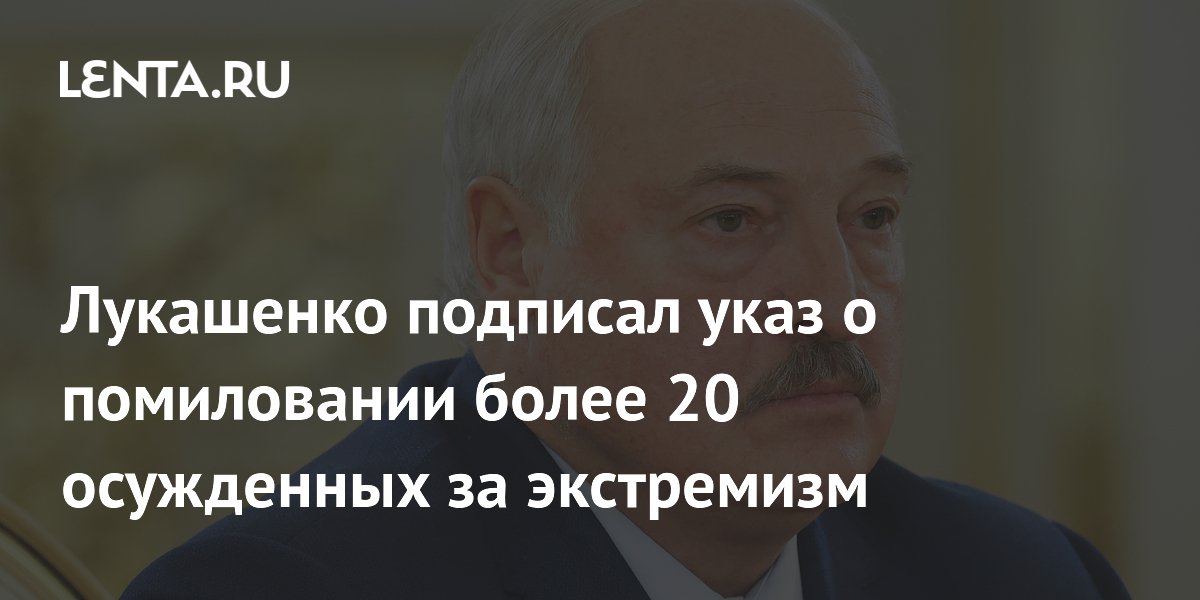

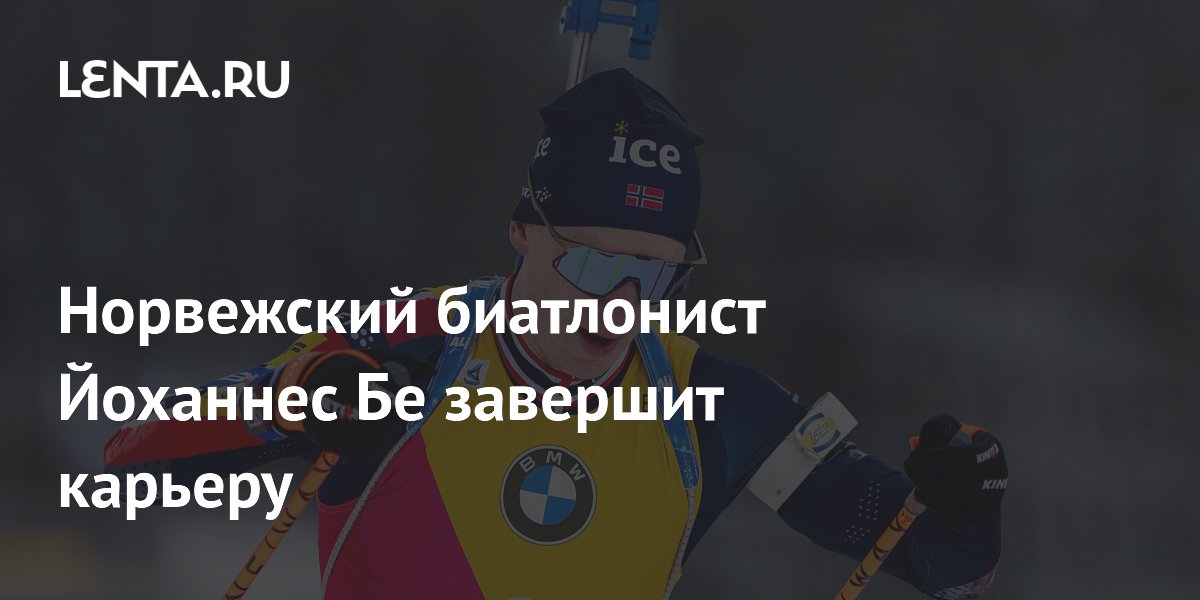
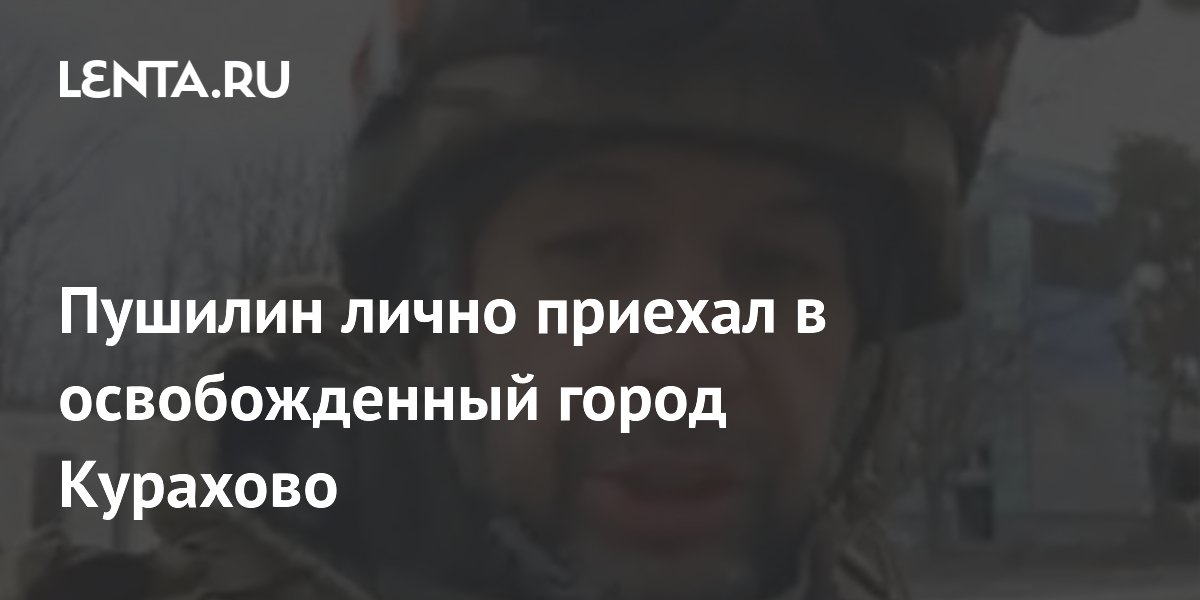
 English (US) ·
English (US) ·  Russian (RU) ·
Russian (RU) ·