ARTICLE AD BOX
Миллениалы стали самым читающим поколением благодаря мальчику, который выжил. А лучший русский перевод — не росмэновский и не Спивак. Об этом и о том, какую роль «Гарри Поттер» сыграл в нашей жизни, поговорили с литературным критиком Галиной Юзефович. В 2025 году в издательстве МИФ выходит её книга «Люмос! Гарри Поттер в истории, философии и культуре».
«Гарри Поттер» и спасение в тёмные времена
Почему вы решили написать книгу про книгу «Гарри Поттер»?
У ответа на этот вопрос есть две стороны. Первый — чисто организационный. В какой-то момент мои дорогие коллеги из интернет-платформы «Страдариум» пришли ко мне и спросили, не хочу ли я делать для них лекционный курс, который был бы про хорошее. Про что-нибудь такое, что может служить опорой и утешением для их слушателей. Я, конечно же, сразу спросила, нельзя ли мне сделать курс про «Властелина колец» Толкина. Но эта позиция уже была прежде меня занята Екатериной Михайловной Шульман*. Мой следующий выбор, конечно же, был «Гарри Поттер», которого мне коллеги и отдали.
Лекционный курс получился какой-то космически популярный, к нам записалось около полутора тысяч человек. То есть столько, сколько вообще не бывает. И подготовка к этому курсу обогатила меня настолько, что стало понятно, что ни в пять, ни в 55 лекций всё мною обнаруженное, исследованное и изученное утолкать не получится. Было очень жалко, что такое добро, такой ценный материал пропадёт. Соответственно, с организационной и институциональной точки зрения моя будущая книга стала расширением и продолжением того курса, который я прочитала в «Страдариуме».
Если же говорить о второй — персональной — стороне этого моего решения, то она довольно тесно связана с тем, о чём меня просили коллеги. Как я уже упомянула, «Страдальцы» (так мы зовём учредителей проекта) хотели сделать курс лекций про хорошее и утешительное. Для меня же на протяжении очень многих лет «Гарри Поттер» является тем самым утешительным, тем самым comfort reading. Вот знаете, бывает comfort food, а для меня «Гарри Поттер» — это comfort reading. Вещь, которая меня успокаивает, обнадёживает, наполняет если не оптимизмом, то по крайней мере надеждой на то, что всё преодолимо. Словом, для меня это книга исключительно терапевтичная и поддерживающая.
Мне кажется, сейчас мы проживаем то время, когда наши возможности влиять на что-либо очень незначительны. И в этой ситуации лучшее порой, что мы можем сделать, — это поддерживать себя в здоровом рабочем состоянии. Не сходить с ума, не озверевать, не деградировать и так далее. Для меня таким мощным инструментом поддержания себя в человеческом состоянии как раз таки является возвращение к вещам, текстам, ассоциирующихся у меня с нормой.
Для меня «Гарри Поттер» — это норма, некое средоточие нормальности. Здорового, разумного, в хорошем смысле светлого подхода к жизни.
Поэтому мне, как и слушателям моего курса, очень хотелось оказаться внутри этого мира. И чтобы это было полезно для меня — как для читателя и как для исследователя. Но не во всякий мир можно возвращаться бесконечно. Я «Гарри Поттера» знаю если не наизусть, то близко к тому. Поэтому мне пришлось этот мир изнутри расширить, дополнить, посмотреть, что лежит за его границами и как он устроен изнутри.
Почему такие истории, как «Гарри Поттер», производят тот самый терапевтический эффект? С одной стороны, да, приятно погрузиться в мир, где всё заканчивается хорошо. С другой — не вызывают ли эти книги после прочтения опустошённость: там всё хорошо, а реальный мир по таким же механизмам не работает?
Мне кажется, представление о том, что в «Гарри Поттер» всё хорошо, — представление не совсем корректное. Нам не следует забывать, что это книга, в которой герой разочаровывается в человеке, заменившем ему отца. Дамблдор для Гарри определённо отцовская фигура. И история их отношений — это история великого разочарования, великой потери и великого прощения. Да что далеко ходить, это книга, которая буквально начинается с того, что маленький мальчик остаётся сиротой и оказывается на воспитании у злобных людей. Это книга, в которой по дороге погибают значимые и дорогие читателю и другим героям персонажи. В которой на протяжении длительного времени торжествует самый настоящий фашизм. Где ж тут всё хорошо?
Ксения Пирон / Горящая изба / Ольга Паволга / Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Там даже концовку сложно назвать безусловно счастливой. Да, Волдеморт повержен и явно больше не вернётся. Но герой — уже не тот добрый и наивный мальчик, которого мы видим в первой книге. Это человек с тяжёлой персональной историей. Мир, в котором он живёт и в котором ему предстоит жить, крайне далёк от идиллического.
То есть я бы не сказала, что «Гарри Поттер» нам нравится, потому что там всё хорошо начинается и заканчивается. Но мир «Гарри Поттера» — это мир, в котором есть некоторое количество очень важных для нас опор. Это книга о дружбе, конечно же, в значительной степени. Это книга о том, что, даже если тебе не повезло с семьёй, ты можешь найти опору в близких по духу людях, которые разделят с тобой твою судьбу. И это история о мире волшебства, одновременно похожем и непохожем на наш, который живёт по ясным законам. Ощущение, что какой-то мир может существовать по определённым законам, что в нём может быть логика, надёжность и структура, — это сегодня очень утешительное, очень нужное чувство.
То есть мне кажется, что терапевтический эффект достигается не за счёт убаюкивающего комфорта, которого внутри «Гарри Поттера» не так и много. Это вообще довольно опасный мир. Это история очень травматичного и болезненного взросления.
Но при этом в мире Гарри Поттера много света, это мир, в котором героям есть на что опереться — чувство, которого сегодня очень многим из нас не хватает.
Ну и нельзя, конечно же, исключать лёгкий элемент эскапизма. Мир Гарри Поттера даёт нам возможность бояться не репрессий и войн, а Василиска, и это гораздо более комфортный страх. Вот это всё создаёт терапевтический эффект, а не погружение в какую-то идиллическую комфортную реальность.
Какая ваша любимая часть «Гарри Поттера»?
Это очень сложный вопрос, ответ на него у меня плавает с течением времени. Важную роль в моих собственных предпочтениях сыграло взросление моих детей, которым я читала книгу вслух, когда они были маленькие. Мои вкусы адаптировались к их вкусам. В какой-то момент мне казалось, что самая прекрасная и восхитительная — вторая книга. В какой-то момент — что четвёртая. Потом мой младший сын был абсолютно заворожён пятой книгой, которая в общем довольно взрослая и мрачная.
Сегодня, несколько отстранившись от морока, который на меня наводили мои дети, я могу сказать, что, наверное, моя любимая часть — четвёртая. Я не буду в этом сильно оригинальной, знаю, что она популярна у большинства читателей. Потому что «Гарри Поттера» можно разделить на две почти равные части.
Первые три книги — детские. Они рассчитаны на младших подростков. Последние — пятая, шестая, седьмая — они взрослые. Чем дальше, тем взрослее и мрачнее. Тем сложнее проблемы, с которыми сталкиваются герои, этические выборы, которые перед ним ставятся. А вот четвёртая лежит строго в середине.
Она как мостик: в ней ещё много бесхитростной детской увлекательности, в ней очень красиво сконструирована интрига, есть стройная, элегантная композиция. Но при этом сквозь всё это уже исподволь пробиваются абсолютно недетские сюжеты. Мне кажется бесконечно красивым наложение простой детской истории на уже зреющую взрослую жутковатую проблематику. Четвёртая книга — та, в которой ещё много света, и в то же время это книга, которая уже не является бесхитростной детской увлекательной сказкой.
Кто будет главным читателем вашей книги? Для кого она написана?
Моя книга будет написана в первую очередь для фанатов. У меня есть сын младший, ему восемнадцать лет, и он фанат «Гарри Поттера». Есть мой отец — писатель Леонид Юзефович — который «Гарри Поттера» отродясь не читал и в целом о нём думает не очень. Сын, когда прочитал две уже написанные главы, сказал: «Где остальное? Ужасно интересно». А папа мой сказал, что «пишешь ты, конечно, хорошо, интонация удачная, а нельзя было написать про что-нибудь поинтереснее?». То есть читатель, который не читал «Гарри Поттера», который не любит «Гарри Поттера», которого не цепляет вся эта история, весь этот мир, культ, — он едва ли найдёт для себя в моей книге что-то специфически «своё». Но я надеюсь, что количество горячих поклонников «Гарри Поттера» достаточно велико, чтобы моя книга нашла своего заинтересованного читателя.
Получается, идеальная читательская стратегия такая: «Гарри Поттер» — ваша книга — ещё раз «Гарри Поттер»?
Да, мне кажется, это был бы хороший путь. Если «Гарри Поттер» уже находится где-то внутри, течёт по венам вместе с кровью, можно и не перечитывать по второму кругу. Достаточно, что называется, в нужный момент вызывать нужные фрагменты из памяти. Но в целом я была бы рада, если б читавшие и знающие «Гарри Поттера» люди, прочитав мою книгу, захотели прочесть его ещё раз, чтобы увидеть там нечто такое, чего раньше не видели.
«Гарри Поттер» и миллениалы
В одном интервью вы упоминали, что «Гарри Поттер» очень важен для миллениалов, потому что это поколение буквально взрослело с героями книг. И кажется, что им было проще принять переход от радостной сказки к мрачной истории. Но если смотреть на человека, который будет читать эти книги впервые уже сегодня, — не будет ли его озадачивать такой контрастный переход?
Многое зависит от возраста этого человека. Книжки про Гарри Поттера длинные. Если сейчас их начнёт читать ребёнок, всё равно он сильно поменяется от того момента, как он начнёт первую книгу, до того, как он закончит последнюю.
Конечно, тут не будет сладостного момента ожидания, когда «о горе, Джоан Роулинг на год откладывает выход пятой книги как нам жить». Или «ура-ура, в ноль часов мы будем стоять на улице возле книжного магазина, чтобы первыми урвать долгожданную седьмую часть». Этого не будет, но динамика всё равно есть. Современный ребёнок читает такого размера книгу долго. За это время он всё равно успевает подрасти и адаптироваться.
Мне кажется, очень здорово, что динамика поттерианы не обыкновенная, когда переключатель щёлкнул, раз — и хтонь. Нет, это та динамика, которая, кажется мне как профессиональному читателю очень полезной для читательской тренировки.
Ты начинаешь с простого, а потом тебя держат так крепко, что ты уже готов адаптироваться и к более сложному. Если читать «Гарри Поттера» на английском, можно заметить, как меняется язык, меняется стилистика. Книга начинается с очень простого языка, а к концу язык Роулинг не назовёшь простым вообще никак.
Если говорить о взрослом человеке, который впервые встречается с «Гарри Поттером» сегодня или в будущем… Я не думаю, что у сколько-нибудь опытного читателя эта динамика вызовет дезориентацию. Скорее наоборот. Когда динамика подаётся в компактном виде и не нужно ждать следующую часть, частично забывая предыдущую, она может восприниматься как дополнительная стройная интрига, вложенная в основную историю. У тебя есть маленькие сюжеты по всему повествованию, отдельные сюжеты в каждой книге и, наконец, большой сюжет, объединяющий все семь частей. Есть эволюция героев, потому что они меняются от книги к книге. И, наконец, есть ещё вот эта динамика настроения: начали с простого, переходим к сложному, от светлого — к тёмному, а после вновь к свету, но уже иному, не тому, что в начале. Мне кажется, она добавляет красоты и глубины восприятию, а не дезориентирует и не сбивает прицел.
Почему именно «Гарри Поттер» стал культовым для миллениалов? Притом настолько, что любовь не утихает годы спустя, и даже ходит шутка, мол, если хочешь что-то продать миллениалу, наклей на товар стикер с «Гарри Поттером».
Это чистая правда. Я многократно это проверяла как вузовский преподаватель. Пока миллениалы не вышли из студенческого возраста, я время от времени придумывала какие-нибудь задания, в которых фигурировал Гарри Поттер. Миллениалы тут же включались и говорили «так-так». Без него задание их увлекало заведомо меньше.
На момент выхода «Гарри Поттера» детско-подростковая литература в англоязычном мире пребывала в колоссальном кризисе. Дело в том, что в 80‑е годы литература вступила в заведомо обречённую борьбу с движущимися картинкам: видеоиграми, кино, сериалами. Для того чтобы одержать верх в этой борьбе, ну или по крайней мере не проиграть с разгромным счётом, издатели начали адаптировать, как им показалось, книги к детским потребностям.
Они приходят к выводу, что у ребёнка фокус внимания держится не больше, допустим, 15 минут (честно сказать, я не помню точную цифру, но порядок такой). Соответственно, в книге не должно быть эпизода, который бы не читался за это время. Иначе ребёнок уснёт, убежит, не прочитает и потом забудет.
Считалось, что детская книжка не должна быть толстой, ни о каких продолжениях речь вообще не шла. Потому что «вы серьёзно думаете, что ребёнок будет год ждать новую книгу? Да он сто раз забудет, у него по-прежнему фокус внимания 15 минут».
Все эти наблюдения нельзя назвать совсем уж беспочвенными. Они опирались на некоторые исследования: маркетинговые, психологические, на наблюдаемую реальность, в конце концов.
Но параллельно с этой здравой, на первый взгляд, издательской политикой накапливался огромный невидимый голод по чему-то по-настоящему увлекательному, большому и по-хорошему старомодному. «Гарри Поттер» в конце 90‑х воспринимался как очень старомодное чтение. Он совершенно не был новаторским и прорывным, скорее наоборот, обладал свойством комфортной узнаваемости. Детская литература переживала кризис, и тут появляется феномен, который идёт поперёк этого кризиса — возвращает, так сказать, чтение к его корням. И оказалось, что именно такой запрос существовал, именно об этом мечтали дети — просто сказать не могли.
Помимо этого, 90‑е — время бурного расцвета интернета. Скорость передачи информации становится абсолютно не такой, какой была за десять лет до этого. Джоан Роулинг попадает в этот тренд. Информация о ней разлетается, становится вирусной гораздо быстрее, чем если бы это произошло за 5–10 лет до этого. При этом конец 90‑х — время, когда интернет ещё не победил всё остальное. То есть книга ещё важна. Дальше она уже перестаёт настолько объединять людей по всему миру, а в тот момент возможности уже сформировались, а проблемы — ещё нет.
Ксения Пирон / Горящая изба / Ольга Паволга / Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Ну и, наконец, есть одна ещё тенденция, которую важно осознавать. В середине 90‑х впервые в человеческой истории начинают размываться границы поколений. Взрослые перестают ассоциироваться с каким-то определённым набором ценностей, любимых книг, фильмов. Происходит постепенное осознание, что взрослые и дети вообще гораздо менее отличны друг от друга. Категория young adult формируется именно в эту эпоху. И книги Джоан Роулинг попадают именно в этот запрос. Он ещё не проговорён, не отрефлексирован. Ещё никто не задумался, что дети и взрослые — это обитатели одного и того же культурного пространства. И тут появляется книга, которую одинаково охотно читают и дети, и взрослые, и мальчики, и девочки.
Словом, это книга, которая очень удачно попала в нужное время и нужное место. Ну а помимо всего прочего, «Гарри Поттер» — правда очень классная книга. Она очень цепляющая и засасывающая. Если бы она не была в самом грубом смысле хорошей книгой, всех этих факторов не было бы достаточно. Но если бы она, будучи хорошей книгой, появилась в какое то другое время, то, думаю, её судьба могла бы быть иной.
Ещё в интервью вы упоминали, что благодаря «Гарри Поттеру» миллениалы стали самым читающим поколением между двумя поколениями. Допустим, зумеры — правда больше дети интернета и читают реже. Но как так вышло, что миллениалы обогнали даже предыдущее поколение, где книга, казалось бы, имела большее значение?
Это иллюзия. Я как раз предыдущее поколение — то самое, которое детьми ещё застало СССР. И тут важно понимать, что наше поколение — это поколение, очень ориентированное на успех. Мы стали первыми в нашей стране за долгие годы, кто получил возможность больше зарабатывать, большего добиваться. Мы оказались в ответе одновременно и за детей, и за родителей, мы могли путешествовать, ходить в ресторан, заниматься теми видами спорта, о которых наши родители даже не слышали. Для многих из нас все эти возможности и обременения заменили чтение.
То есть представление, что это нынче все люди деградировали, бегают совершенно голыми и книжек не читают, то ли дело раньше, — не совсем верное. Читают с годами действительно меньше, это неизбежность, с которой мы не сможем ничего поделать. Но да, миллениалы обгоняют в смысле интереса к чтению своих родителей. Потому что у родителей эту привычку заместили другие. А у них нет — для них чтение стало сознательным выбором при наличии других возможностей, а не результатом скудости видов досуга.
И этот эффект начитанности продолжается даже сейчас, когда миллениалы сами приобщились к интернету и другим способам развлечений?
Как я уже сказала, поколение миллениалов в среднем продолжает читать больше, чем люди старше и моложе. Наверно, тоже есть некоторое затухание, миллениалы, возможно, читают меньше, чем десять лет назад. Но они читают больше, чем их старшие и младшие современники. Этот эффект достаточно устойчив, хотя и вымывается с годами. Однако даже на большом промежутке времени его видно.
«Гарри Поттер» и идеальный перевод
Несколько лет назад с продажи сняли книги «Гарри Поттер» от издательства «Росмэн». Их место заняла поттериана в переводе Марии Спивак. Многие фанаты ругались, что он гораздо хуже росмэновского, за старыми книгами открылась настоящая охота. Каково ваше мнение о конфликте вокруг разных переводов?
К сожалению, оба перевода плохие. Выбирать между ними крайне сложно. Перевод «Росмэна» ценится больше во многом потому, что к нему все привыкли. Как правило, люди читали впервые именно его, и для них он стал «правильным». Читатели очень привыкают к определённому типу перевода и потом категорически не согласны ни на что другое.
Первые книги переводили случайные люди, найденные буквально «по объявлению», без интереса и понимания того, что вообще они переводят. На четвёртой книге издатели сообразили, что, вообще-то, к ним в руки попало невероятное сокровище. Тогда они сменили стратегию и наняли нормальных переводчиков. Последний цикл переводил, наверно, трудовой коллектив самых лучших переводчиков, которые только есть в нашей стране: Леонид Мотылёв, Владимир Бабков, Сергей Ильин. Это переводческая команда мечты. Но они находились в плену у множества уже имеющихся косяков и ляпов, доставшихся им в наследство от первых частей, которые уже нельзя было исправить. Тем не менее последние книги, по крайней мере, переведены так, что кровь из глаз у читателя не хлещет.
Перевод Маши Спивак — это тоже перевод сложной судьбы. Он сделан с огромной любовью. Маша Спивак полюбила «Гарри Поттера» тогда, когда большинство людей в России даже слова такого не знало.
Она влюбилась в эту книгу настолько, что перевела первые две части абсолютно бесплатно, для души. Потом, уже через много лет, ей предложили доперевести остальное — и это было для неё огромное счастье. В отличие от росмэновского перевода, перевод Марии Спивак исполнен любви. И это на самом деле очень чувствуется. Важно, чтобы переводчик если не любил глубоко текст, с которым он работает, то хотя бы хорошо его чувствовал и высоко ценил. Никто из росмэновских переводчиков, даже идеальная команда, «Гарри Поттера» не любил. Мария Спивак — настоящий фанат этой книги.
Её принято ругать в первую очередь за перевод имён. Конечно, многие из них выглядят для российского читателя странно, особенно если ты привык к другому переводу. Сильнее всего пострадал Снейп, который, бедолага, в её переводе стал Злодеусом. Мария начала переводить, когда ещё никто не знал, что Снейп — вообще-то, довольно нетривиальная, сложная и точно не отрицательная фигура. Она решила, что он злодей, и назвала его зачем-то Злодеусом. Потом, когда оказалось, что всё не так однозначно, ей пришлось переделать его в Златеуса, что звучало чудовищно искусственно и, конечно же, раздражало.
Но стоит признать, что за счёт любви и искренней увлечённости во многих отношениях перевод Спивак лучше.
В нём больше чувства ритма, чувства языка. В нём гораздо живее и органичнее интонации речи. Но опять же Спивак — не профессиональный переводчик. «Гарри Поттер» стал её первым и последним переводческим опытом. Поэтому перевод шероховатый чисто с профессиональной точки зрения. Ведь литературный перевод, кроме любви и понимания текста, — это ещё и ремесло.
Так что сказать, что у нас есть полностью хороший перевод, — нельзя. И в том, и в другом есть некоторые достоинства и вполне существенные недостатки. Но я могу порекомендовать перевод, который мне кажется если не идеальным, но близким к тому. Но к сожалению, он точно не доступен в бумаге. Это перевод Юрия Мачкасова. Мачкасов перевёл первые две книги, и, на мой взгляд, это просто какое-то виртуозное попадание во всё: реалии, интонацию, стиль. Но он это сделал исключительно для себя, и никто из правообладателей не обратился к нему за продолжением. Он перевёл две книги, явно страшно развлёкся и этим ограничился. Долгое время его книги где-то болтались в сети. Не знаю, доступны ли они сейчас. Но если и есть бескомпромиссно хороший перевод «Гарри Поттера» на русский, то это перевод Мачкасова.
В своей будущей книге вы описываете, какими произведениями и какими авторами вдохновлялась Джоан Роулинг, когда писала «Гарри Поттера». Не теряются ли эти отсылки именно в переводе на русский?
Отчасти, конечно, теряются. Но я не могу сказать, что это критично. У Роулинг отсылки редко построены по модели словесной игры или стилистического «подмигивания». Они, как правило, довольно простые. Поэтому, если человек задастся целью найти эти отзвуки, в русском переводе он это сделает, в общем, не хуже, чем в оригинале.
Мне кажется важным сказать, и я об этом пишу в самом начале главы, что есть писатели, для которых эти отсылки, параллели, аллюзии, переклички бесконечно важны — например, читать «Имя розы» Умберто Эко, не понимая заложенных в нём отсылок, в общем, бессмысленно. В «Гарри Поттере» они просто добавляют читательской радости.
Любому читателю приятно, когда автор ему подмигнул, а он увидел и может подмигнуть в ответ.
Но по большому счёту это не влияет на понимание «Гарри Поттера». То есть это приятно, радостно и увлекательно, но не критично для осмысления и последующего анализа Джоан Роулинг. Даже если что-то потеряется, едва ли российский читатель от этого обеднеет.
А насколько этично автору вдохновляться произведениями других писателей? Не теряет ли произведение тогда оригинальность?
Короткий ответ: нет, ничего неэтичного в этом нет. Мы с вами сейчас разговариваем и не замечаем, что используем фразы, обороты, идиомы, которые придумали до нас. Которые безусловно существуют в культурном пространстве. Вообще, культурное пространство — это огромный питательный субстрат, из которого растёт новое. Не бывает нового текста, который не был бы подпитан старыми текстами, фильмами, картинами. Любой автор, если он не прожил в скиту всю свою жизнь, если он прочитал хотя бы условного «Колобка», будет опираться на другие тексты. «Нет человека, который был бы как остров» — заметьте, тоже цитата! Так вот, нет книги, которая была бы как остров.
Ксения Пирон / Горящая изба / Ольга Паволга / Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Словом, ничего дурного в отсылках и подмигивании нет до тех пор, покуда это не становится бессовестной эксплуатацией. И здесь мы переходим из раздела «автор читал то-сё, вдохновлялся тем-сем» до «автор взял и что-то у кого-то списал». Желание Джоан Роулинг иногда остроумно поиграть с романами Джейн Остин, иногда перемигнуться с английским готическим романом, иногда обозначить отсылки к артуровским книгам — легально. А вот творчество, например, Дмитрия Емеца, который взял и всё списал у Джоан Роулинг, по крайней мере первые книги, — другой разговор. Не шрам на лбу, а бородавка на носу, не мальчик, а девочка, не Гарри, а Таня, не Поттер, а Гроттер — и понеслась душа в рай. Вот это уже не «вдохновился», это реальный плагиат.
Конечно, границы между этими сторонами не то чтобы прорублены раз и навсегда, но мне кажется, любой читатель хорошо понимает, где автор отталкивается, творчески переосмысляет чужое, а где он тривиально ворует.
Тогда не могу не задать вопрос: к какой стороне относятся здесь фанфики, которых написали большое множество про Гарри Поттера?
Фанфики — вещь принципиально некоммерческая. Если люди хотят порассуждать и написать книжку, как было бы, если б Гарри женился на Гермионе, а не вот эта вот вся фигня с Роном, — на здоровье. Ничего дурного тут нет. Но в тот момент, когда они захотят издать эту книгу на бумаге и продавать за деньги, — это уже будет откровенный плагиат. Если бы Дмитрий Емец написал свою «Таню Гроттер» и бесплатно выложил её в сеть со словами «так люблю Джоан Роулинг, сил нет, как мне хочется что-то похожее написать» — не было бы вопросов. Этические претензии вызывает коммерческое использование того, что тебе не принадлежит.
А так фанфики — прекрасная вещь, я сама не против иногда их прочитать, особенно по Шерлоку Холмсу.
Изучали ли вы фанфики для подготовки своей книги?
Нет. Я прочитала фанфик Юдковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления», который мне кажется очень интересным и остроумным и как раз таки находящимся в содержательном диалоге с «Гарри Поттером». Кстати, это проект некоммерческий. Юдковский свою книгу не продавал, не заработал на ней ни копейки. Это одновременно и его оммаж Роулинг, и попытка вступить в полемику с этим популярнейшим феноменом.
В целом мне кажется, что для понимания «Гарри Поттера» чтение фанфиков необязательно. У фанфика понятный механизм: автор испытывает жгучую недостачу, ему не хватило прочитанного. Фанфики пишутся от зудящего чувства внутри: мне мало, я хочу туда ещё. Читатель фанфиков делает то же самое, только у него меньше душевных сил, он не готов писать, но он готов читать. Исследовать это можно как интересный социальный феномен, как элемент культа «Гарри Поттера», но для анализа самой книги, в общем, не обязательно.
«Гарри Поттер» и жизнь после книг
Как вы относитесь к культуре отмены Роулинг?
Это история, в которой у меня есть вопросы к обеим сторонам конфликта. Сейчас уже мало кто помнит, но первоначально высказывание Джоан Роулинг мог воспринять как враждебное только очень нервный человек, очень мнительный и склонный везде видеть врагов. Но реакцией стала катастрофическая волна хейта, которая на писательницу обрушилась. Реакцией на хейт была поляризация мнения Роулинг. Новая волна хейта — ещё большая поляризация. В итоге стороны друг об друга позаводились. И сейчас то, что пишет Роулинг по этому вопросу, я бы предпочитала не видеть. Но я помню, как оно начиналось
Культура отмены сама по себе кажется мне сомнительной идеей. Она противоречит базовым основам читательско-писательского пакта. Читатель читает буквы, а не писателя. Фигура писателя важна ровно в той степени, в которой она влияет на книгу или считывается в буквах.
У Роулинг те, кого она критиковала в своих постах, не присутствуют в книгах в качестве ужасных злодеев. Если б она настаивала на чём-то подобном, были бы вопросики. А предъявлять претензии к «Гарри Поттеру» на том основании, что через 15 лет после завершения работы над циклом его создательница сказала что-то не то, — мне представляется крайне странным.
Кроме того, мне кажется ещё более странным желание сказать, что Гарри Поттер — всенародный любимец, от которого невозможно отказаться, и потому будем говорить, что он самозародился без автора. Тоже популярная, между прочим, тема: будем любить «Гарри Поттера», но мы больше никогда не упомянем имя Джоан Роулинг. Опять-таки, мы знаем многих писателей, которые были людьми, мягко скажем, похуже Джоан Роулинг. Важно ли нам это? Да, важно. Означает ли это, что мы должны разрушать связь между этим писателем и его книгой? Нет.
Вся эта публичная истерика вокруг писательницы мне кажется некрасивой, причём как со стороны Джоан Роулинг, так и со стороны хейтеров. Но идея, что мы должны как-то отчуждить «Гарри Поттера» от его автора или искоренить книгу, потому что автор так себя повёл, — мне эта идея кажется крайне непродуктивной и неэтичной.
Как вы относитесь к проектам, которые стали выпускать после «Гарри Поттера»? Нужны ли нам сериалы, фильмы и новые книги, или лучше оставить культурный пласт там, где он был, просто его пересматривать и почитать?
Нет простого ответа на этот вопрос. Я не знаю. С одной стороны, «если звёзды зажигают — значит — это кому-то нужно». Если есть запрос, если есть стремление у зрителя получить ещё немного мира Гарри Поттера в другой упаковке, то почему нет.
С другой стороны, например, пьеса «Проклятое дитя» была ужасно неудачной. Точнее говоря, рассказывают, она была совершенно крышесносным спектаклем. Но в качестве текста пьеса была, скажем деликатно, неудачной попыткой выжать ещё немного денег из всемирно любимой франшизы.
Очень многое зависит от качества, оригинальности, рефлексивности подхода к материалу. Я с огромным удовольствием посмотрела первую часть «Фантастических тварей», которая дополняет и расширяет мир «Гарри Поттера», спасибо за это. Вторая часть, на мой взгляд, получилась крайне слабой. И соответственно, зачем её надо было делать — не очень понятно.
Всегда можно представить осмысленное, интересное дополнение, расширение, переосмысление известных вещей. Точно так же можно представить без особого труда беззастенчивую эксплуатацию и паразитирование на популярном проекте. В случае с «Гарри Поттером» наверняка происходило и будет происходить и то и другое. Иначе не бывает.
*признана иноагентом Минюстом РФ



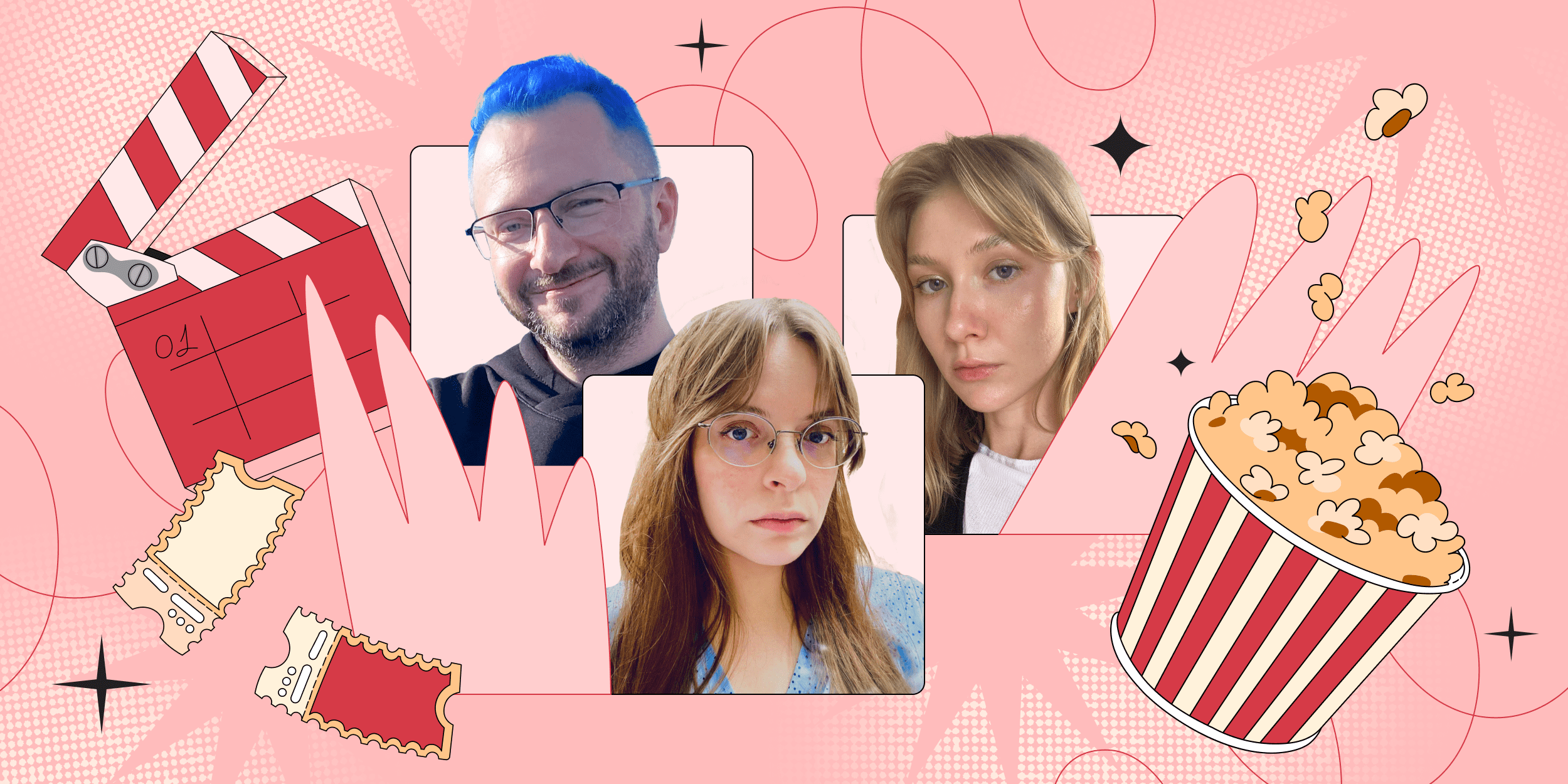











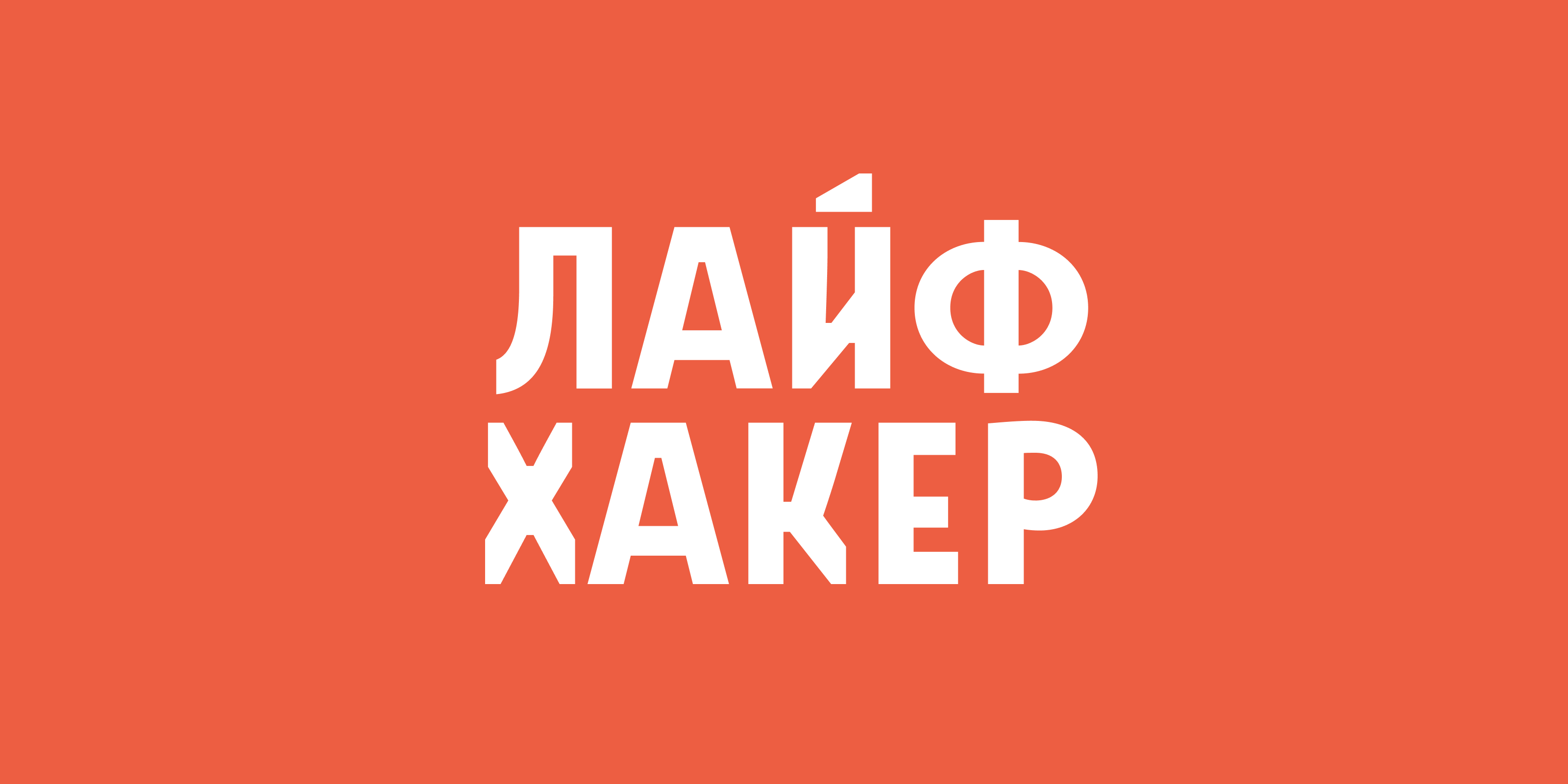

















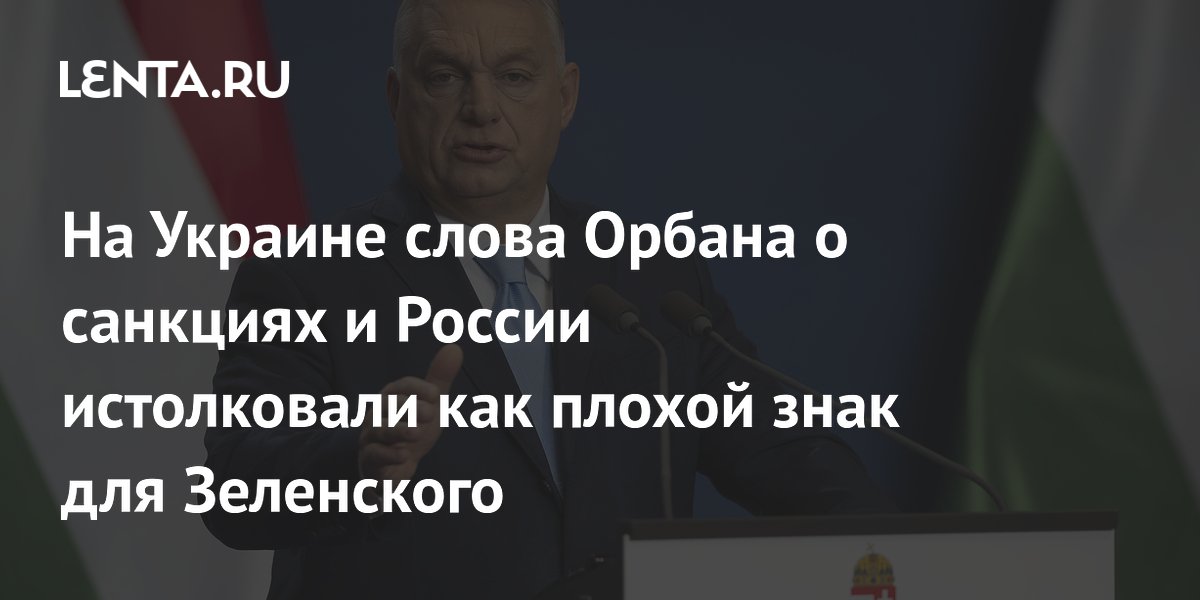


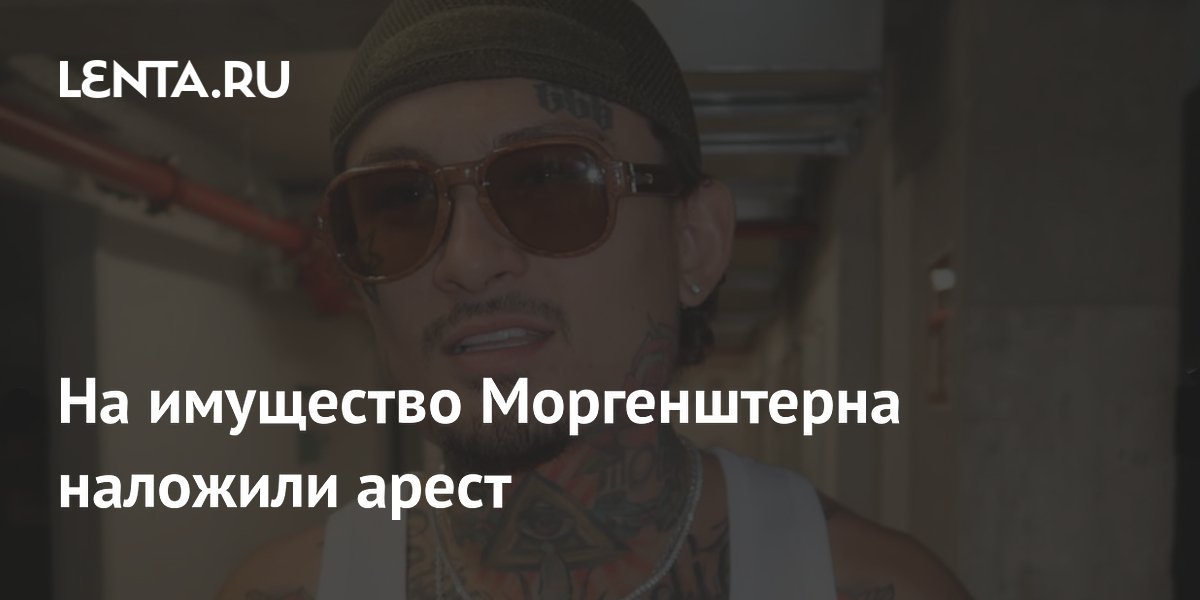
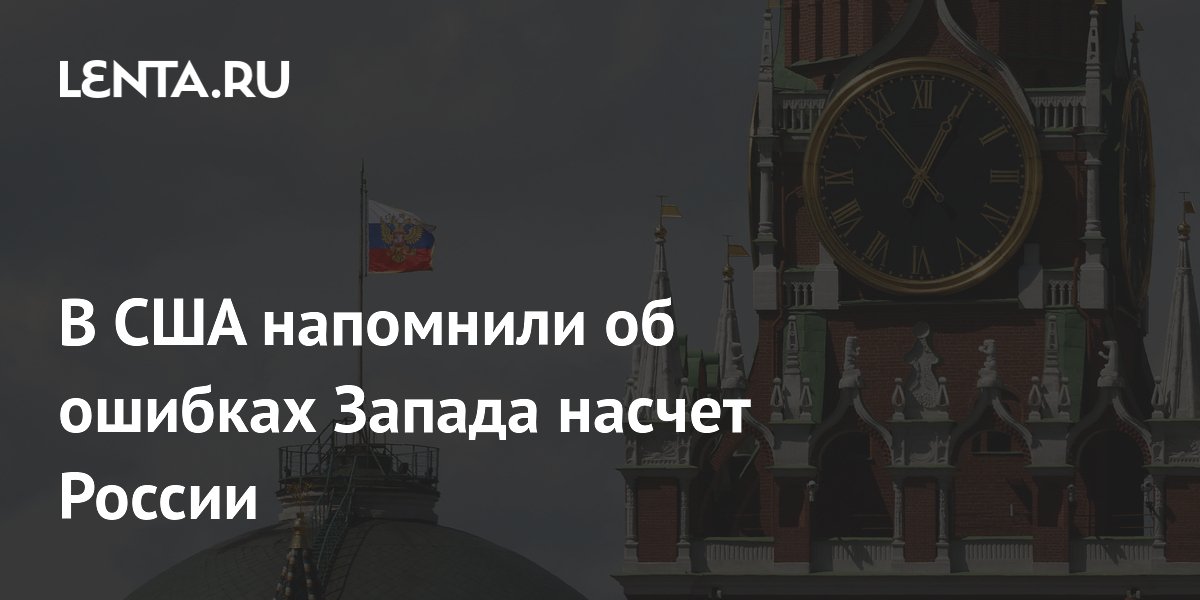
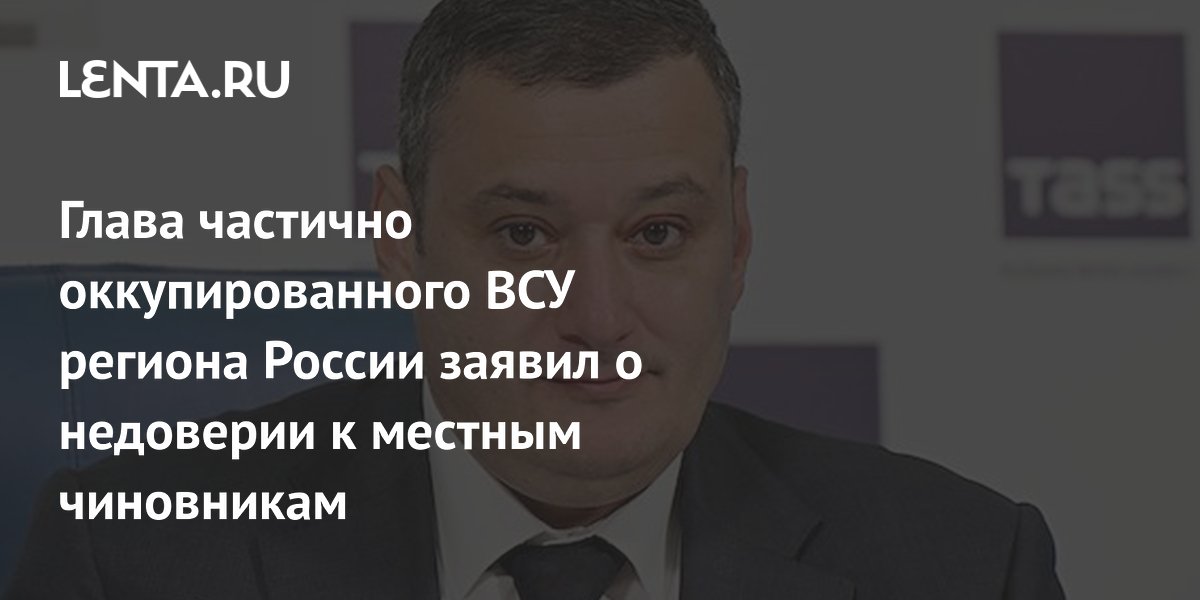
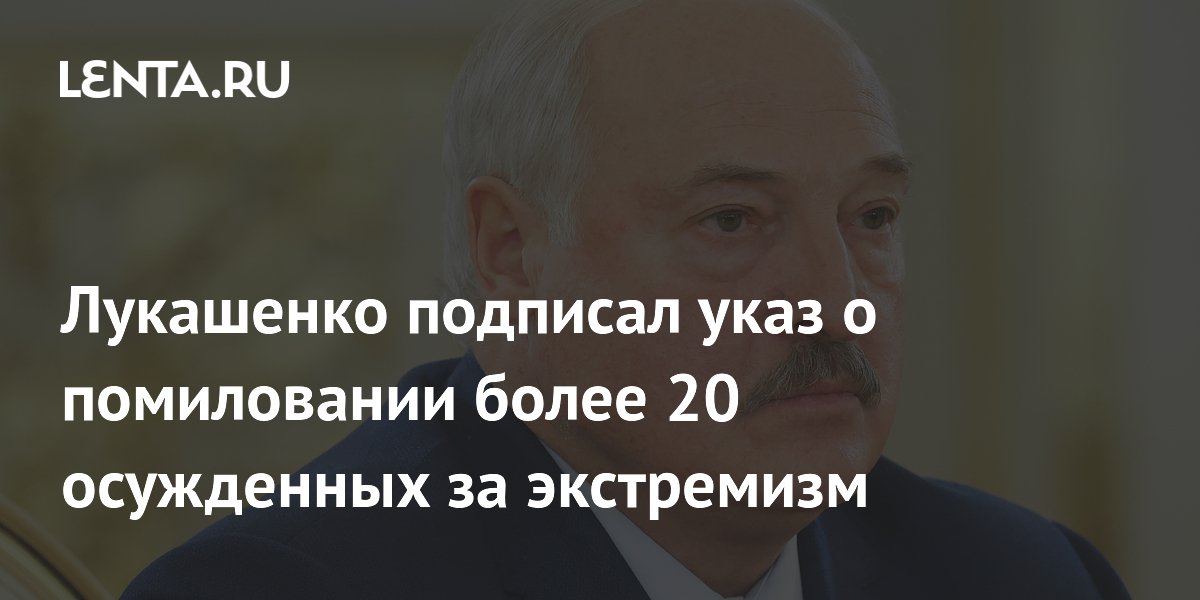

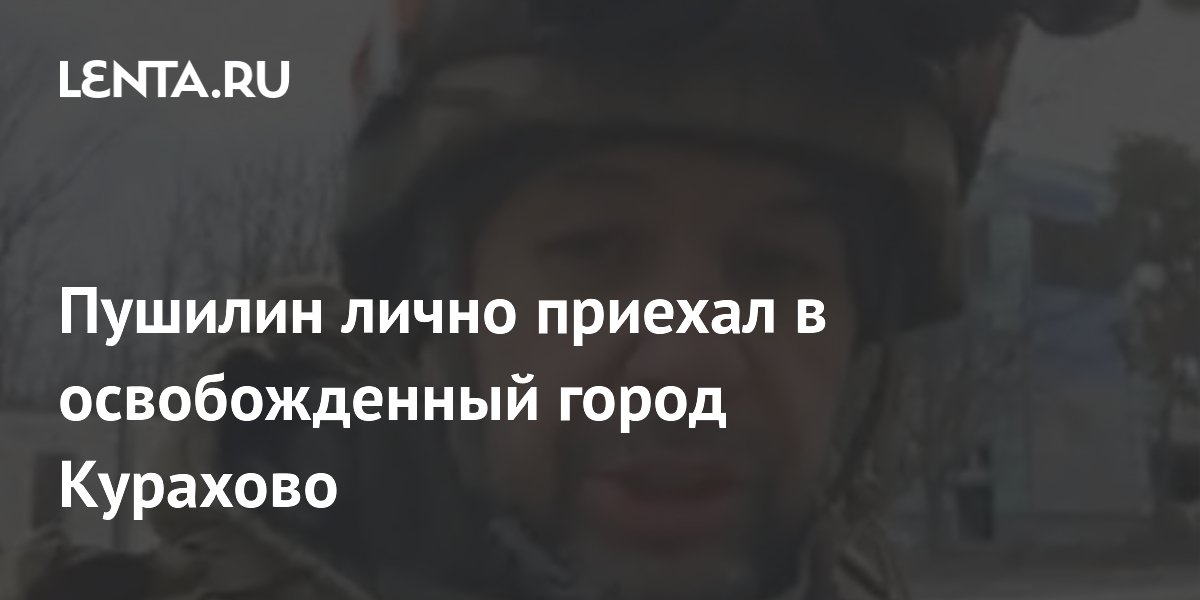
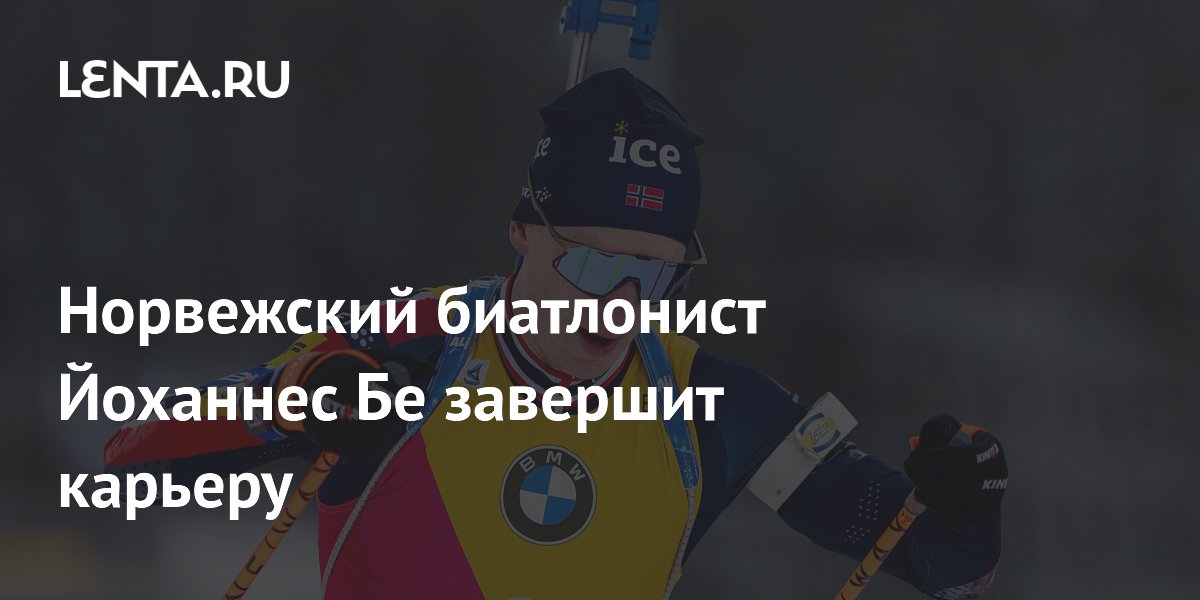
 English (US) ·
English (US) ·  Russian (RU) ·
Russian (RU) ·