ARTICLE AD BOX
XLIII Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в Татарском театре оперы и балета, приуроченный к 150-летию театра, традиционно открыли премьерой - новой постановкой оперы "Кармен", которая также отмечает 150-летие в этом году.
Для Казанского театра это шестая постановка оперы, впервые она появилась здесь в 1942 году. Над новым спектаклем работала итальянская команда постановщиков: режиссер - Марко Гандини, художник - Итало Грасси, художник по костюмам - Анна Биаджотти.
Спектакль получился на редкость динамичным и ярким, при традиционном решении и классических костюмах - стильным и современным.
Марко Гандини - представитель итальянской реалистической оперной режиссерской школы, в течение многих лет был ассистентом Франко Дзефирелли. Российскому зрителю он знаком по постановке в "Новой опере" "Трубадура" Верди, которая сохраняется в репертуаре уже более 10 лет.
Любой новой интерпретации "Кармен" мешает ее популярность и, как следствие, многочисленные штампы в исполнении и восприятии. Но даже если читать партитуру заново, то сложностей много: герои многогранны, заложено много смыслов (до мифологического и ритуального), в развитии действия - постоянное сочетание общих и "крупных" планов, хора (работниц, солдат, контрабандистов) и главных героев.
Арии и дуэты главных героев часто проходят внутри или на фоне массы поющих персонажей, развиваясь параллельно и вторгаясь друг в друга. Все это создает интригу и динамику раскручивающейся пружины. Это невероятно сложно как сыграть, так и поставить.
Основной секрет успеха казанской постановки "Кармен" - именно мастерски сделанные массовые сцены и ансамбли. Сильный уклон сцены увеличивает перспективу, и при большом количестве людей отчетливо видно каждого. В некоторых сценах, например, во втором действии в Таверне - несколько ярусов в глубине (балкон, площадка с лестницей), хор и танцовщики "действуют" на всех уровнях.
Масса разбита на небольшие группы - от двух до шести человек, у каждой группы своя жизнь и история, все движется, но не возникает суеты или хаоса, потому что все оправдано. Более того, хор поет, не сбиваясь все вместе, как это бывает обычно, а продолжая двигаться, кто парой, кто в группе в сценке в разных местах пространства. Получается эффект кино, и звук объемлет всю сцену. При этом хор двигается хореографически выверено, но естественно, и в этом "почти танце" в паре с хористом может оказаться девушка из миманса, а он продолжает петь с хором!
Танцуют в спектакле и главные, и второстепенные герои. Поэтому танцы и не смотрятся как отдельные вставные номера, но в какой-то момент выделяются, "высвечиваются" (хореограф - Надежда Калинина). В Таверне танец сделан очень музыкально: реплики танцовщиков отвечают диалогу инструментов в оркестре, и, динамизируясь вместе с оркестровым крещендо, танец захватывает сцену - сначала танцуют отдельные танцовщики, потом два-три дуэта, затем все и на всех "этажах".
Обе исполнительницы Кармен - Екатерина Сергеева, (Мариинский и Татарский театры) и Анастасия Лепешинская ("Новая опера") - пластичны, подвижны, органично включаются в танец, у обеих роль выстроена. В Кармен Сергеевой есть некоторая мальчишеская резкость и хулиганство ("отрыв"), но чувствуется внутренняя глубина, словно спрятанное за игрой предчувствие. В Кармен Лепешинской больше сексуальности, ее Кармен все время демонстрирует превосходство.
Ахмед Агади в отличной вокальной форме и свою партию Хозе очень хорошо выстраивает драматически на крещендо к финальной трагедии. Во втором премьерном спектакле Хозе исполнял тенор Рагаа Эльдин (Италия), более лирический герой, с мягким и красивым голосом, которому поначалу, может быть, не хватало драматизма. Но в обоих спектаклях финальная сцена получилась предельно накаленной и страстной. Конечно, благодаря и оркестру, который задал градус динамики с самого начала увертюры. Дирижер-постановщик Антон Гришанин из Большого театра подчеркнул, что были открыты некоторые мелкие купюры, и, чтобы освежить восприятие партитуры, он старательно шел за композитором во всех темпах, нюансах.
И вокально, и актерски были замечательны обе Микаэлы: у Гульноры Гатиной - хрупкая и наивная, у Венеры Протасовой - более серьезная деревенская девушка, ее красивая ария в третьем действии прозвучала страстной молитвой о спасении Хозе.
В целом получился именно спектакль - выстроенный и музыкально, и сценографически, и актерски, где работает каждая деталь, все оправдано, при этом насыщено экспрессией. Благодаря этому возникает магия театра. И тогда отдельные небольшие промахи или вокальные неудачи не могут нарушить общего впечатления.
Прямая речь
Марко Гандини, режиссер:
- При огромном опыте работы с таким мастером, как Дзефирелли, зная музыку, я выстраиваю спектакль вместе со всеми участниками, создавая вначале основной каркас, и затем эту макроструктуру мы уточняем и детализируем. Это как работа скульптора - сначала создаете общую форму, затем убираете лишнее и идете к деталям все более мелким. И через детали - к правде.
Достичь правды - наиболее трудно. Самое главное, чему я научился у Дзефирелли, - как искать, найти и достичь правды. Правды слова и правды ситуации. Зритель должен поверить, а певцам нужно постичь и дойти до самой глубины в характере и в музыке. И еще должна быть красота, не уродливость сегодняшней реальности, не ужастик при любом сюжете, но красота, потому что опера, музыка - прекрасны.




































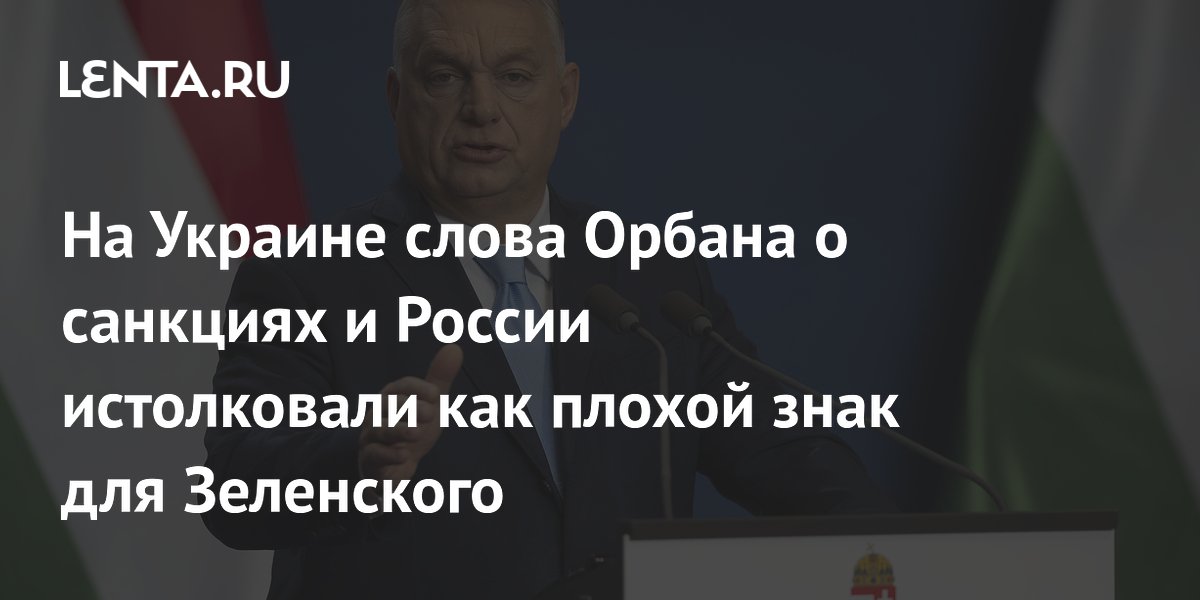
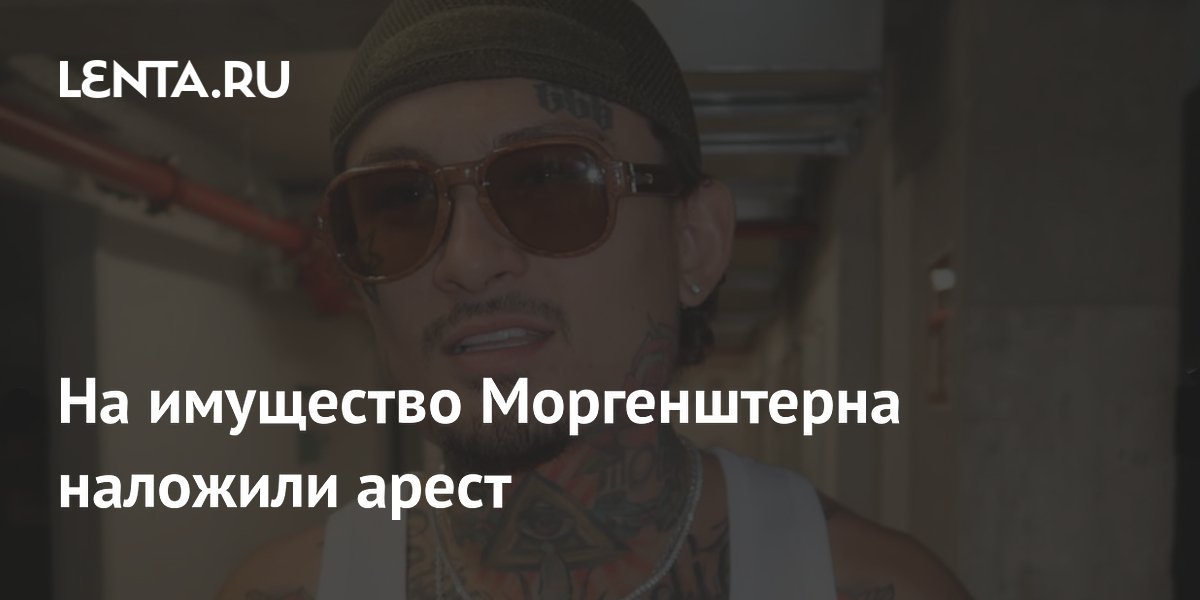
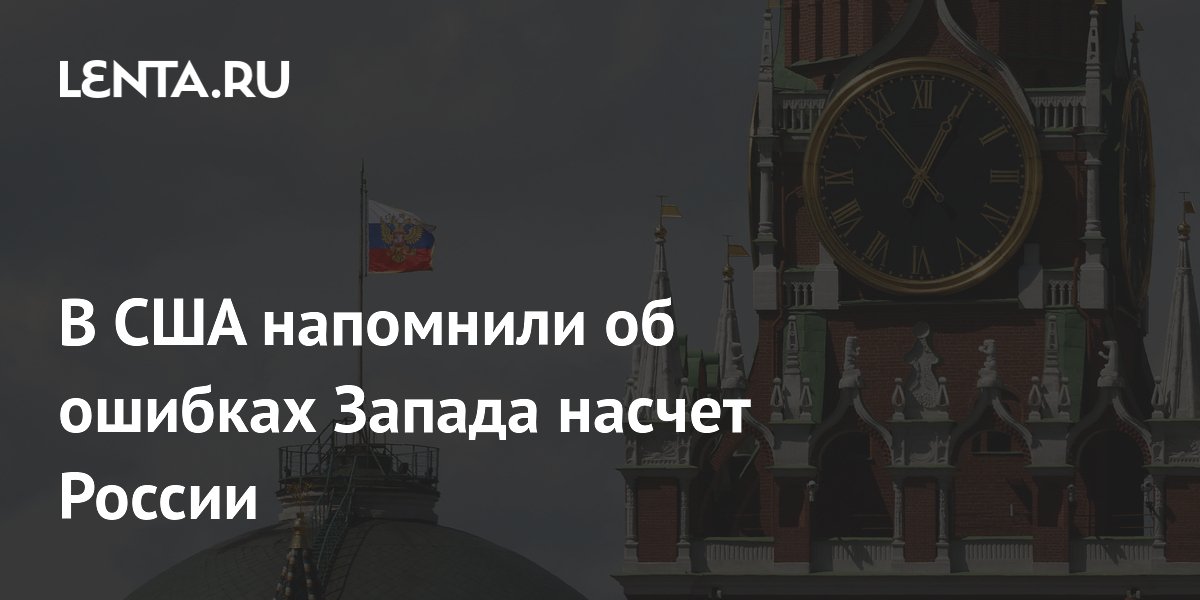

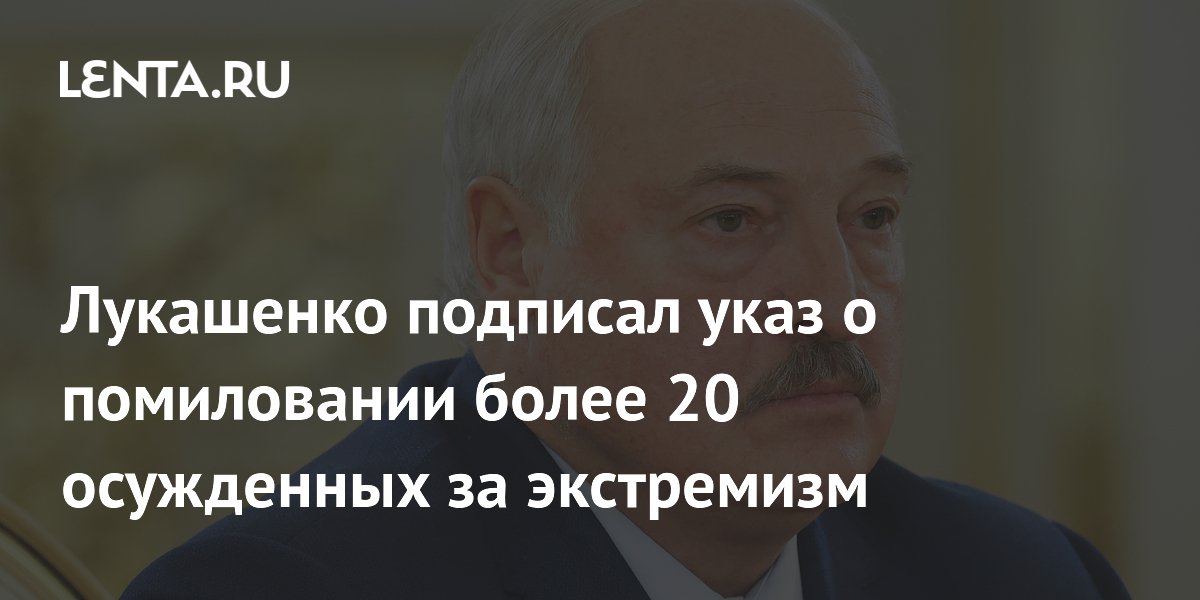
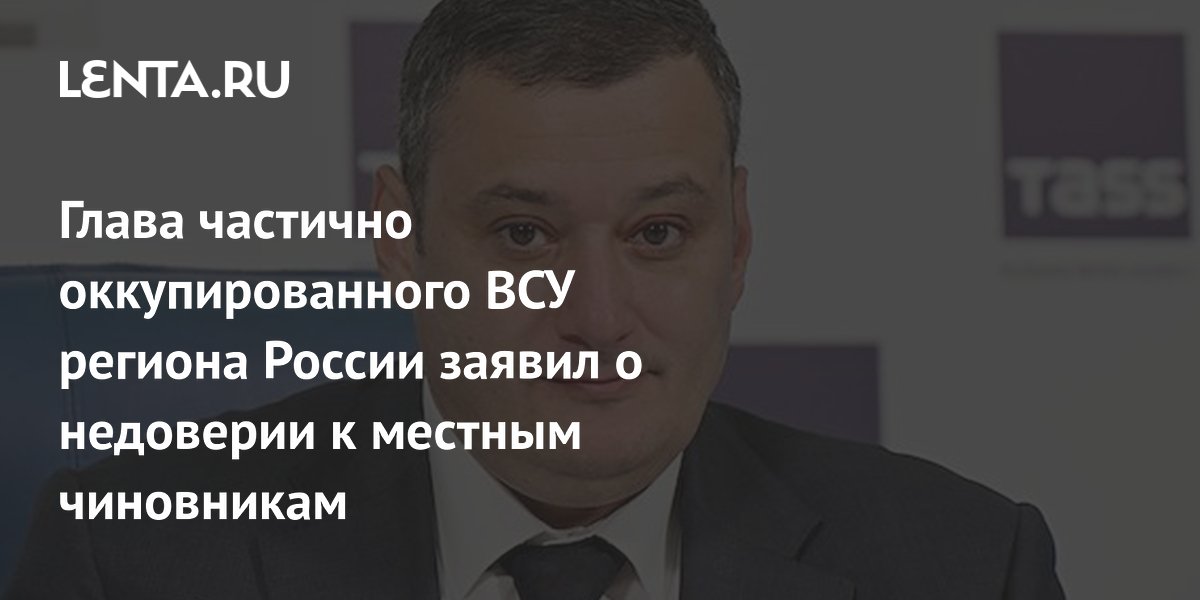
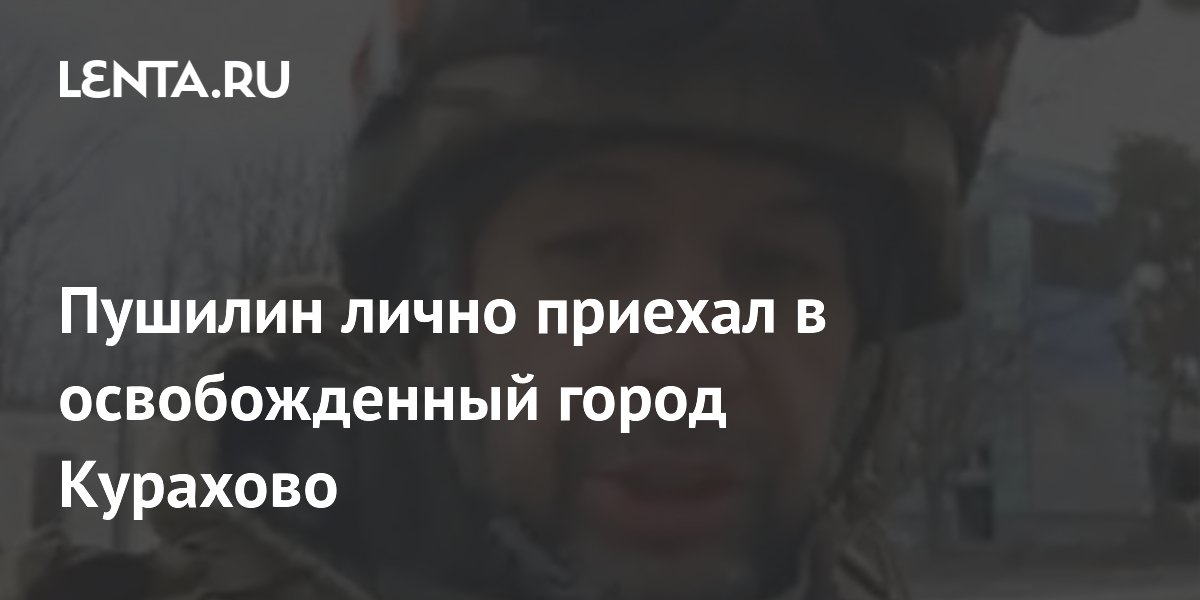
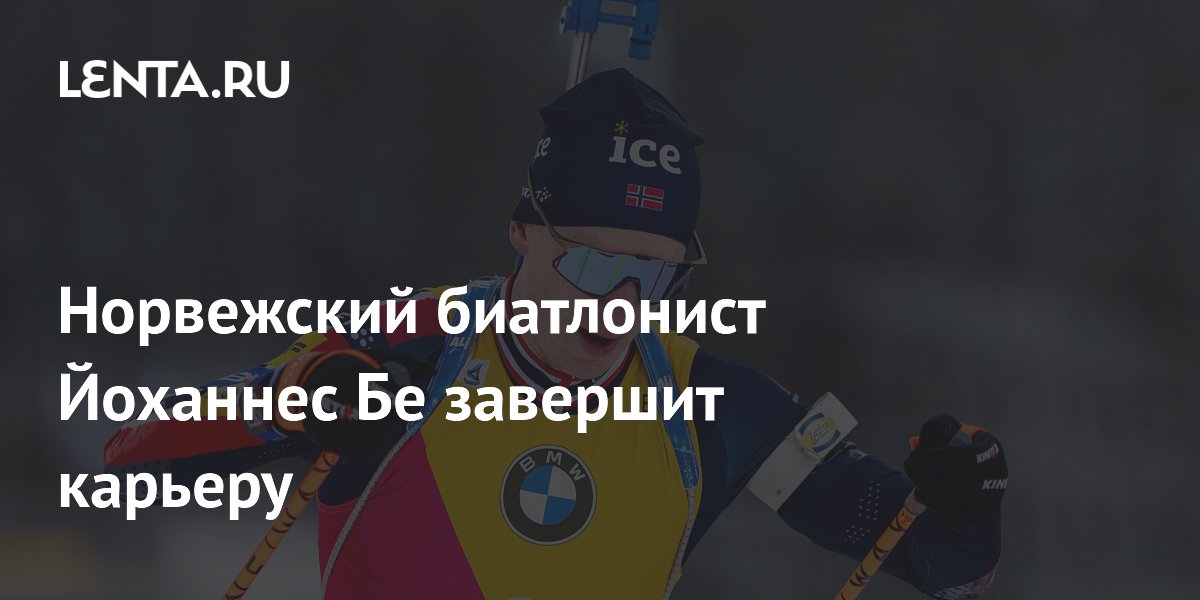
 English (US) ·
English (US) ·  Russian (RU) ·
Russian (RU) ·